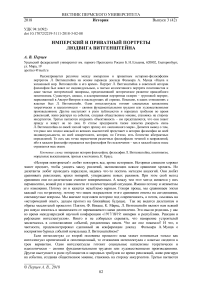Имперский и приватный портреты Людвига Витгенштейна
Автор: Перцев А.В.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Интеллектуальная повестка в период между мировыми войнами: о войнах и империях
Статья в выпуске: 3 (42), 2018 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается различие между имперским и приватным историко-философским портретом Л. Витгенштейна на основе перевода доклада Фолькера А. Мунца «Наука и жизненный мир. Витгенштейн и его время». Портрет Л. Витгенштейна в советской истории философии был вовсе не индивидуальным, а частью коллективного портрета позитивистов и даже частью исторической панорамы, представлявшей историческое развитие враждебного позитивизма. Существует, однако, и альтернативная портретная галерея - групповой портрет, нарисованный в Австро-Венгрии и наследующих ей странах. Показано, в каких отношениях с властью был Л. Витгенштейн. Одни интеллектуалы готовят социальные катаклизмы теоретически и идеологически - своими фундаментальными трудами или художественными произведениями. Другие выступают в роли публицистов и народных трибунов во время революций, живо реагируя на события, создавая общественное мнение, становясь на сторону инсургентов. Третьи пытаются сохранять объективность - им представляется, что они знают правду и живут не по лжи. В статье предпринята также попытка раскрыть связь Л. Витгенштейна со своей эпохой через призму его «жизненного мира». Делается вывод о том, что рано или поздно каждый из великих мыслителей предстанет в истории философии во всей индивидуальности, во всей конкретности, которая, по Гегелю, есть богатство абстрактных определений. То есть как точка пересечения различных философских течений и направлений, ибо в каждом философе отражается вся философия без исключения - как в каждой капле воды отражается весь океан.
Имперская история философии, философия л. витгенштейна, позитивизм, моральные высказывания, призыв к молчанию, к. краус
Короткий адрес: https://sciup.org/147245190
IDR: 147245190 | УДК: 94:1(092) | DOI: 10.17072/2219-3111-2018-3-82-88
Текст научной статьи Имперский и приватный портреты Людвига Витгенштейна
«История повторяется!» любят повторять все, кроме историков. Историки слишком хорошо знают предмет, чтобы увидеть массу различий, заставляющих всякое сравнение хромать. Но дилетанты любят проводить параллели, надеясь что-то постичь методом аналогий. Они любят сравнивать революции, крахи империй, утверждение новых режимов. При этом свой метод сравнения они по-дилетантски считают вневременным. А между тем этот метод меняется у них перманентно, всякий раз в зависимости от наличествующей ситуации. Именно потому и незаметны его изменения. Потому он и кажется незыблемо верным. Говоря проще, мы сравниваем эпохи каждый год по-разному, потому что ищем посредством этого сравнения ответы на сегодняшние, сиюминутные вопросы. Мы вначале подгоняем историю под современность, а потом, ссылаясь на «исторический опыт», делаем прогноз на ближайшее будущее. Так же видятся дилетантам и образы мыслителей прошлого: Платон, Ф. Ницше, К. Маркс, Л. Витгенштейн являют нам всякий раз новую ипостась в зависимости от переживаемого нами десятилетия. Эти мысли родились у нас во время международной научной конференции «1917/18/19: империи и республики. Реакции и рефлексии интеллектуалов». Никто и не собирался скрывать, что намерение устроителей заключалось в сопоставлении событий, разделенных веком. Что же оно показало? И что, в частности, продемонстрировал сделанный на конференции доклад Фолькера А. Мунца о восприятии бурных событий начала века Л. Витгенштейном?
Если интеллектуал со второй половины прошлого века может пониматься только как интеллектуал критический и оппозиционный, то отношения интеллектуала с властью сводятся к трем вариантам. Одни интеллектуалы готовят социальные катаклизмы теоретически и идеологически – своими фундаментальными трудами или художественными произведениями. Другие выступают в роли публицистов и народных трибунов во время революций, живо реагируя на события, создавая общественное мнение, становясь на сторону инсургентов. Третьи пытаются
сохранять объективность – им представляется, что они знают правду и живут не по лжи. Именно третьи и находятся в наибольшей опасности: их критикуют и даже уничтожают обе противоборствующие стороны: власть и противо-власть. Из соображений самосохранения такие «свидетели эпохи» пишут «в стол» в надежде на публикацию в дальнейшем. Порой возникают эпохальные дневники-эпопеи, в которых описание непосредственно пережитого опыта соединяется с глубокими экзистенциальными переживаниями.
В каких отношениях с властью был Л. Витгенштейна?
Л. Витгенштейн явно не был теоретиком революции. Он не был и революционным публицистом, агитатором по причине глубокой мизантропии и агрессивной застенчивости. Витгенштейн, правда, был на фронте и вел там записи. Отечественные витгенштейноведы до сих пор спорят о том, как эти записи называть. Они упорядочены по датам, по дням, но называть их дневниками нельзя, потому что в них обычно описывается произошедшее за день. А в его текстах представлены не только события, но и мысли научного характера, которые по значению выходили далеко за рамки данного дня. (Впоследствии записи превратились стараниями Л. Витгенштейна в «Логико-философский трактат», который был издан на немецком языке в 1921 г. в Германии).
В текстах отразились и фронтовой опыт Л. Витгенштейна, и его мысли о грозящей смерти, о долге, о чести, о Боге – обо всем том, о чем в «Трактате» рассуждать не рекомендовано. Если бы не этот запрет на рассуждения об этике, эстетике и религиозных предметах, то, возможно, никто и не стал бы исследовать отрывочные записи Л. Витгенштейна – настолько они кажутся отрывочными и малозначительными. К тому же эти записи Л. Витгенштейн «шифровал», но предельно простым шифром. Итак, на одной стороне дневников писалось то, на что была надежда, что можно сказать ясно [ Wittgenstein , 1922, S. 188], а на другой – то, что было лучше не говорить, потому что никаких надежд сказать это ясно не было. Но почему же тогда Л. Витгенштейн сам не следовал принципам своего будущего «Трактата»? Почему он не только говорил о том, о чем лучше было не говорить (по крайней мере, сам с собой), но и даже записывал – не только для себя, а, возможно, и для других, которые легко прочтут примитивную тайнопись? (Что, собственно, и случилось!)
Так или иначе, а публицисты тайнописью не пишут. И для экзистенциалистского мемуариста Л. Витгенштейн тоже был чересчур отрывочен и непонятен.
Тем не менее Ф.А. Мунц, пытался раскрыть связь Л. Витгенштейна со своей эпохой. Но для этого он был намерен рассматривать эту эпоху не в телескоп, а в микроскоп – через призму «жизненного мира» Л. Витгенштейна.
Содержание «зашифрованных» записей «личного» характера было связано с тем, как Л. Витгенштейн переживал эпоху великих потрясений. И потрясения эти должны были как-то отразиться на содержании того, что впоследствии превратится в «Трактат». Такова была основная гипотеза доклада Фолькера А. Мунца, и правильность этой гипотезы обосновывалась историкофилософскими фактами.
Но вот что обнаружилось уже при письменном переводе доклада. На международных конференциях представитель одной страны далеко не всегда знает, на каком уровне публика другой страны, которая внимает его сообщению, знакома с биографией рассматриваемой в его докладе персоны. Если он специально не задумается об этом, то будет «само собой» полагать, что слушатели его доклада знают примерно столько же, сколько привычная ему студенческая публика у него на родине. Поэтому он не станет сообщать иностранной аудитории общеизвестных вещей, чтобы не обидеть ее.
Вот здесь-то мне и пришла мысль о принципиальном различии имперской и демократической истории философии. Об имперском и приватном портретах Л. Витгенштейна. Докладчик рисовал – реконструировал его приватный историко-философский портрет. А присутствующие – хотя они и видели себя демократами – до сих пор находились под впечатлением от имперских, коллективных портретов. Портрет приватный, индивидуальный, был им, собственно, и не особенно нужен. Они уже видели его, но он не показался им важным и не запомнился.
В советское время – при имперском мышлении обществоведов, гуманитариев и историков философии, в частности, – образ Л. Витгенштейна рисовался без особых деталей лишь на групповом портрете позитивистов. Имперское мышление следует принципу «Aqui-la non captat muscas», или, если по-русски, «великие люди деталей не обсуждают».
К. Маркс и Ф. Энгельс боролись с позитивизмом О. Конта [ Маркс, Энгельс , 1963]. В.И. Ленин боролся со вторым позитивизмом – Э. Маха и Р. Авенариуса, а также с их последователями в большевистской среде – А.А. Богдановым и А.В. Луначарским [ Ленин , 1984]. Теперь же надо было, продолжая эту эпохальную традицию борьбы, бороться с новым позитивизмом – неопозитивизмом. К нему советские историки философии и относили Л. Витгенштейна, а далее – весь Венский кружок.
Позитивистское движение в Австрии представляло собой масштабный коллективный портрет с десятками ярких фигур. На первом плане были те, кто занимал кафедру индуктивных наук в Венском университете (Мах, Больцман, Штёр, Шлик), за ними – участники Венского кружка. Л. Витгенштейну на этом коллективном портрете было уготовано заметное, но не центральное место. Это было место пророка позитивистской «научной религии» – религии Науки и ее служителей. Это место Л. Витгенштейн никогда бы не занял, если бы не последнее предложение его «Трактата», через призму которого Венский кружок толковал все предыдущие его предложения. Но истолковано было это предложение как призыв покончить с теологией и метафизикой: говорить только то, что может быть сказано ясно, т.е. выражено логически и математически грамотно, и молчать о том, что так ясно выражено быть не может.
Однако Л. Витгенштейн хотел сказать своим «Трактатом» вовсе не это, о чем не преминул сообщить как Б. Расселу, не приняв его предисловия к «Трактату», так и членам Венского кружка. Он говорил о том, что моральные высказывания не принадлежат к логическому пространству и представляют собой атаку на границы языка. Но ведь если есть границы, то есть и запредельное, лежащее за ними? Выразимо ли оно вообще? И есть ли у языка границы – неужели он похож на клетку?
К. Ясперс, сравнивая свою позицию с позицией И. Канта, называл кенигсбергского мыслителя пассивным агностиком, а себя – активным агностиком. Агностик полагает, что есть нечто непознаваемое. И. Кант называет его «вещь в себе» и отказывается далее обращать на нее внимание. Карла Ясперса, однако, интересует именно это непознаваемое – и человеческие попытки его познать, которые длятся уже более двух с половиной тысячелетий [ Ясперс , 2018].
Позиция членов Венского кружка ближе к кантовской. Позиция Л. Витгенштейна ближе к ясперсовской.
Вот что Л. Витгенштейн сказал о религии, а Ф. Вайсманн записал за ним в среду, 17 декабря 1930 г. в Нойвальдегге:
«Существенна ли для религии речь? Я очень хорошо могу представить себе религию, в которой нет никаких постулатов и в которой, следовательно, не о чем говорить. Сущность религии, очевидно, не должна иметь ничего общего с тем, о чем можно вести речь, или, скорее, так: если что-то говорится, то это само по себе является составной частью религиозного поступка, а не религиозной теорией. Таким образом, это вовсе не зависит от того, истинны, ложны или бессмысленны слова. Религиозные речи не являются также сравнением; ибо тогда это должно было бы быть сказано прозой. Атака на границы языка? Но ведь язык не является клеткой. Я могу сказать лишь: я не смеюсь над этим человеческим стремлением; я снимаю перед ним шляпу. И здесь существенно, что это не социологическое описание, но то, что я говорю это о себе самом. Факты для меня ничто. Я чувствую сердцем, что имеют в виду люди, когда говорят <мир тут>» [ Вайсманн ].
Это мистика, о которой говорит логик. Мистики отвергают священные писания и все человеческие, слишком человеческие представления о богах. То же самое говорит языком логика Л. Витгенштейн: он может сердцем представить себе религию без единого постулата. Религию, о которой по этой причине сказать невозможно ничего.
Но это, конечно, не пустота, подобная вакууму. Потому что она давит и гнетет. (Фолькер А. Мунц показывает в докладе, как эти гнетущие ощущения Л. Витгенштейн все же записывает – в зашифрованном виде – в своих дневниках.)
Отголоски этих терзаний, запечатленных на бумаге, мы впоследствии можем найти в «Трактате». О мистике явственно говорит предложение за номером 6.522:
«6.522. Имеется, во всяком случае, невыразимое в языке. Оно выказывает себя, это – мистическое» [ Wittgenstein , 1922, S. 186].
Выказывает себя это мистическое – как показывает доклад Ф.А. Мунца – все же в языке (так что шифрует свои записи в тетрадях Л. Витгенштейн прежде всего от самого себя, чтобы скрыть прегрешение – он делал запретное и говорил о невыразимом в языке, о котором следует молчать).
Когда человек наталкивается на это объективно-невыразимое в мире, он испытывает необыкновенные муки, которые у филологов называются «муки творчества». В чем причина этих мук творчества? В том, что в самом мире как некоем тексте бытия есть непроясненные предложения, в которых Бытие сказывает свой смысл, но сказать его внятно не может.
Как надо вести себя в этой ситуации?
Л. Витгенштейн отвечает:
«6. 521. Решение проблемы жизни замечают при исчезновении этой проблемы.
(Не в этом ли причина того, почему люди, которым смысл жизни стал ясен после долгих сомнений – почему они тогда не могут сказать, в чем этот смысл состоял?)» [ Wittgenstein , 1922, S. 186].
Толковать это можно так. Тот, кто ищет смысл жизни и не может его найти, впадая в сомнение от неразрешимых противоречий, может закончить тем, что в конце концов после долгих мучений вдруг ощутит, что проблема смысла жизни в нем разрешилась. То, чем он терзался, больше его не мучает. Иные, терзаясь, покончили с собой или оказались в сумасшедшем доме, но большинство людей к старости научилось отрешаться, «не брать в головы лишнего». То, что заставляло их страдать в юности, больше их не мучает. Именно такой человек, который достиг мудрости, т.е. постижения того, что некоторые предложения в тексте самого бытия принципиально непрояснимы и невыразимы, успокаивается. Он обретает покой. Он открыл для себя смысл жизни, перестав задавать себе «вопросы философии» и рассуждать о них. Он постиг, что на человеческом языке мудрости жизни не выразить никогда. Как же он тогда достиг духовного просветления? А он просто перестал говорить впустую и перешел к молчанию. Именно в таком молчании мудрец только и обретает великую интуицию, которая позволяет ему постигать суть жизни. Эта суть жизни и вымалчивается в мистике. Она постигается в отрешенном безмолвии.
Философия, по Л. Витгенщтейну, состоит именно в том, чтобы отучить людей разговаривать и научить молчать, чтобы вымалчивать таким образом мистическую суть жизни.
В «Трактате» об этом сказано так:
«Верная метода философии была бы, собственно, такой: не говорить ничего из того, что позволяет себя сказать, то есть предложения естествознания – то есть чего-то такого, что не имеет отношения к философии –, а далее, всегда если кто-то другой захотел бы сказать что-то метафизическое, доказывать ему, что он не задал никакого значения тем или иным знакам в своих предложениях. Эта метода была бы неудовлетворительной для другого – у него не возникло бы чувства, что мы учили его философии. Но то именно она была бы единственной строго верной» [ Wittgenstein , 1922, S. 186, 188].
Терапия языка, предлагаемая «Логико-философским трактатом», должна, таким образом, приводить к молчанию. Мистик, занимающийся этой терапией, встречает приходящего к нему с какими-то эмпирическими открытиями человека словами: «Это не ко мне, это к естествоиспытателю». Если же к нему приходит тот, кто желает высказать нечто теологическое или философское, он применяет другой прием: спрашивает, какое реальное содержание, доказываемое на опыте, имеет тот или иной знак его предложения – то или иное слово в высказываемом им тезисе.
Предложение 6.54 «Трактата» звучит следующим образом:
«6.54. Мои утверждения проясняются посредством того, что тот, кто понимает меня, в конце концов, постигает их бессмысленность, когда он благодаря им поднимается над ними и встает выше их, поднимаясь за их пределы. (Ему придется, так сказать, отбросить лестницу, после того, как он поднялся по ней наверх).
Ему придется преодолеть эти утверждения, и тогда он увидит мир верно» [ Wittgenstein , 1922, S. 188].
Понимать это можно так: Л. Витгенштейн излагает в «Трактате» некоторую философию что признает он сам. Суть такой философии состоит в том, что никакой философии излагать не нужно. Если кто-то какую-то философию излагает, это надо прекратить, чтобы привести человека к молчанию, в котором постижима мистическая мудрость.
Л. Витгенштейн, уподобившись этому критянину, разоблачает самого себя: он занят философией, утверждающей, что заниматься философией нельзя.
Как признание этого парадокса, сходного с расселовским, Витгенштейн седьмым предложением говорит, что его «Трактат» лучше было бы вовсе не писать.
«7. О том, о чем невозможно говорить – о том приходится молчать» [ Wittgenstein , 1922, S. 188].
Так, может быть, весь «Трактат» – это просто шутка в духе Карла Крауса или Фридриха Ницще? Лучше всех смысл жизни постигли те, кто не может выразить, в чем он заключается. Правильность моей методы доказывается тем, что пользующиеся ею понимают ее бессмысленность. И так далее.
Да, был у Л. Витгенштейна в юности учитель-юморист, который очень хотел привести людей к молчанию. И был он вовсе не мистиком, а сатириком. Его звали Карл Краус (1874–1936). Он выпускал журнал «Факел», которым хотел уничтожить всю прессу Австро-Венгрии. (Точно так же, как бравый солдат Швейк успешно боролся со всей империей.)
«Факел» К. Крауса родился не на пустом месте – он был продолжением венских кабаре. Но сатира К. Крауса была мрачной, полной доведенного до предела черного юмора, который уже перестает быть смешным и начинает казаться предельно цинично высказанной истиной о жизни – чем-то вроде творчества.
Панк-нигилист Карл Краус говорил о себе: «Я – птица, которая гадит в собственное гнездо» [ Kraus , 2007]. Для него не было, поистине, ничего святого. Начало пространных рассуждений о святом – это, по его мнению, верный признак конца культуры: « Когда та или иная культура чувствует, что приходит её конец, она посылает за священником». И, по мнению К. Крауса, мы как раз и переживаем «победу информации над культурой».
Л. Витгенштейн читал «Факел» в юности, но встретился с К. Краусом только раз. Застенчивый до грубости, Л. Витгенштейн, как это часто бывает с юношами, сразу принялся критиковать человека, которого особо ценил и уважал. Точно так же было и при первой встрече с Б. Расселом, но сатирик К. Краус обладал куда меньшим тактом, чем британский аристократ. Встреча с ним у Л. Витгенштейна осталась первой и последней. Но влияние К. Крауса на Л. Витгенштейна, – которое, конечно, невозможно проследить в полной мере, не зная немецкого языка – настолько сильно, что о нем пишутся статьи и солидные монографии [ Isava , 2002; Kienzler , 2009].
В одной из них даже выделяется особое культурное течение – критический венский модерн , представленный Карлом Краусом, Адольфом Лоосом и Людвигом Витгенштейном. И есть у этого течения, как оказывается, и своя этика, и своя эстетика. Так что не получилось у Л. Витгенщтейна не высказываться на этические и эстетические темы, как о том говорилось в «Трактате» [ Gemmel , 2005].
Разумеется, можно (и нужно!) сопоставлять события в истории и сравнивать поведение людей в разделенных временем исторических ситуациях. Проведение аналогий дает порой возможность понять какие-то детали и тонкости. Но метод аналогий вовсе не универсален. Потому что способы проведения аналогий тоже меняются с каждой эпохой. Историографы разных эпох видят происходящее разными глазами – в зависимости от утвердившейся в их время «парадигмы», если не моды. То же относится и к историкам философии и культуры. Именно потому исторические портреты и исторические батальные полотна тоже бывают имперскими либо проникновенно-субъективистскими – во времена утверждения в обществе индивидуализма и либерализма. И то, и другое снимается в новом, недилетантстком видении предмета, которое получается в результате синтеза таких подходов в науке.
Список литературы Имперский и приватный портреты Людвига Витгенштейна
- Gemmel M. Die Kritische Wiener Moderne - Ethik und Asthetik: Karl Kraus, Adolf Loos, Ludwig Wittgenstein. Berlin: Verlag Parerga, 2005. 439 S.
- Isava L. M. Wittgenstein, Kraus, and Valery: A Paradigm for Poetic Rhyme and Reason (Phenomenology and Literature). Bern: Peter Lang Inc., International Academic Publishers, 2002, 196 S.
- Kienzler W. Die Sprache des Tractatus: klar oder deutlich? Karl Kraus, Wittgenstein und die Frage der Terminologie // Wittgenstein - Philosophie als «Arbeit an Einem selbst» / Hrsg. G. Gebauer, F. Goppelsroder, J. Volbers. Paderborn; Munchen: Fink, 2009, S. 223-247.
- Kraus K. Die Fackel. URL: http://www.welcker-online.de/Links/link_939.html (дата обращения: 02.07.2018).
- Kraus K. Ich bin der Vogel, den sein Nest beschmutzt: Aphorismen, Spruche und Widerspruche. Neu gesetzte Ausg. nach den Ausg. Leipzig 1919 und Wien-Leipzig 1924. Wiesbaden: Marix-Verl., 2007. 475 S.
- Wittgenstein L. Tractatus logico-philosophicus. London [u.a.]: Kegan Paul [u.a.], 1922. 189 S.
- Бибихин В.В. Витгенштейн: смена аспекта. М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы Аквинского, 2005. 576 с.
- Вайсманн Ф. Людвиг Витгенштейн и венский кружок / пер. В.В. Анашвили. URL: (дата обращения: 02.07.2018).
- Грязнов А. Ф. Эволюция философских взглядов Л. Витгенштейна: Критический анализ. М.: 1985. 172 с.
- Грязнов А. Ф. Язык и деятельность: критический анализ витгенштейнианства. М.: Либроком, 2009. 152 с.
- Карнап Р., Ган Г., Нейрат О. Научное миропонимание - Венский кружок // Логос 2 (47). 2005. С.13-26.
- Крафт В. Венский кружок. Возникновение неопозитивизма. М.: Идея-Пресс, 2003. 224 с.
- Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм. Критические заметки об одной реакционной философии. М.: Политиздат, 1984. 383 с.
- Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М.: Политиздат, 1963. Т. 31. 690 с.
- Поппер К. Р. Открытое общество и его враги. Т. 1: Чары Платона. Т. 2: Время Лжепророков: Гегель, Маркс и другие Оракулы. Киев: Ника-Центр, 2005. 800 с.
- Эдмондс Д., Айдиноу Дж. Кочерга Витгенштейна. История десятиминутного спора между двумя великими философами / пер. с англ. Е. Канищевой. М.: Новое литературное обозрение, 2004. 352 с.
- Ясперс К. Шифры трансценденции // EINAI: Философия. Религия. Культура. 2018. Т. 7, № 1 (13). URL: https://einai.ru/ru/archives/1924 (дата обращения: 02.07.2018).