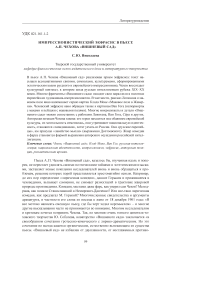Импрессионистический экфрасис в пьесе А.П. Чехова "Вишневый сад"
Автор: Николаева Светлана Юрьевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2018 года.
Бесплатный доступ
В пьесе А. П. Чехова «Вишневый сад» реализован прием экфрасиса: текст насыщен ассоциативными связями, символами, культуремами, сформированными эстетическим кодом русского и европейского импрессионизма. Чехов воссоздает культурный контекст, в котором жила русская интеллигенция рубежа XIX-XX веков. Многие фрагменты «Вишневого сада» находят свои параллели в полотнах европейских художников-импрессионистов. В частности, рассказ Лопахина о маковом поле явно напоминает серию картин Клода Моне «Маковое поле в Живерни». Чеховский экфрасис явно обращен также к картинам Ван Гога (натюрморты с маками и пейзажи с маковыми полями). Многие микросюжеты и детали «Вишневого сада» можно сопоставить с работами Левитана, Ван Гога, Сёра и других. Авторская позиция Чехова такова: его герои находятся под обаянием европейской культуры, их ментальность изменилась, они утрачивают национальную идентичность, становятся «западниками», хотят уехать из России. Они «русские европейцы», им присуще «лакейство мысли» (выражения Достоевского). Жанр комедии и фарса становится формой выражения авторского осуждения российской интеллигенции.
Чехов,
Короткий адрес: https://sciup.org/146278405
IDR: 146278405 | УДК: 821.161.1-2
Текст научной статьи Импрессионистический экфрасис в пьесе А.П. Чехова "Вишневый сад"
Пьеса А. П. Чехова «Вишневый сад», казалось бы, изученная вдоль и поперек, не перестает удивлять своими поэтическими тайнами и эстетическими изысками, заставляет новые поколения исследователей вновь и вновь обращаться к проблемам, решение которых порой представляется хрестоматийно ясным. Например, до сих пор определение «лирическая комедия», данное Горьким и прижившееся в чеховедении, вызывает сомнения, не снимает разногласий в трактовке жанровой природы произведения. Комедия, местами даже фарс, как уверял сам Чехов? Мелодрама, как поняли Станиславский и Немирович-Данченко? Или все-таки лирическая комедия, как предлагал М. Горький? Многочисленные свидетельства и аргументы драматурга, в частности его слова из письма к жене от 18 декабря 1901 года: «Я все мечтаю написать смешную пьесу, где бы черт ходил коромыслом» – и многие другие высказывания часто не принимаются во внимание. Многим исследователям и критикам хочется поправить Чехова. Так, по мнению очень тонкого ценителя чеховского творчества Ю. Соболева, новаторство «Вишневого сада» заключается «в своеобразном сочетании гротескно-комического с лирико-драматическим. Но это сочетание не всегда кажется органическим, естественно вытекающим из существа пьесы. «Вишневый сад» не избавлен от двупланности, от несглаженных противо- речий. Как, в самом деле, оправдать определение автора «Вишневого сада» как комедии, «местами даже фарса», с глубокой драматичностью целого ряда моментов, хотя бы в сцене прощания Гаева с Раневской, несмотря на «веселость», как полагал Чехов, всего четвертого акта?
Но Чехов не замечает противоречий. Убеждая Немировича-Данченко в том, что Аня «Вишневого сада» не похожа на Ирину «Трех сестер» хотя бы потому, что «Аня ни разу не плачет», и доказывая, что у него в пьесе «нет плачущих», Чехов ошибался. У него не только есть ремарки, указывающие на то, что персонажи говорят «сквозь слезы», но у него есть и прямые указания о нескрываемых слезах и рыданиях. И все-таки Чехов был убежден, что вышла у него «не драма, а комедия, а местами даже фарс» [17, с. 234].
Разночтения и разница мнений возникают потому, что гротескно-комическое и лирико-драматическое в процессе анализа исследователи обычно разделяют: вот эпизод со слезами, а вот сцена фарсовая. На самом деле у Чехова каждый эпизод внутренне очень органичен, имеет синтетический (амбивалентный) характер, он пронизан романтической иронией, которая вовсе не предусматривает «сглаживания противоречий», а одновременно демонстрирует разные, подчас противоположные аспекты того или иного образа, превращая его в оксюморон. Обращение к возможностям романтической иронии – один из основных путей формирования комедийной природы пьесы А. П. Чехова. Романтическая ирония как эстетический принцип позволяет художнику обнаруживать сосуществование и взаимодействие высокого и низкого в окружающей действительности, создавать такие художественные феномены, в которых синтезируются комическое и трагическое, выстраивать свою аксиологию и онтологию и представлять их читателю ненавязчиво, в максимально объективной форме, фактически на уровне подтекста (подводного течения). Своеобразие творческой манеры Чехова «в тонком сочетании романтических и реалистических тенденций, в филигранной поэтике диалога с романтиками» [9, с. 67].
Особенно ярко это видно на многочисленных примерах чеховского экфра-сиса. В драматургическом произведении автор лишен возможности выражать прямо свою точку зрения – почти лишен, так как на сцене говорят герои, но не их создатель. Спасают положение и дают дополнительные возможности авторские ремарки и те фрагменты реплик персонажей, в которых так или иначе реализован прием экфра-сиса, то есть описания – описания картины природы, живописной картины, музыкального произведения и т. п. У Чехова в «Вишневом саде» и в авторских ремарках, и в монологах героев довольно много очень значимых, на наш взгляд, описательных фрагментов, насыщенных ассоциативными связями, символическими значениями, намеками, культуремами и мифологемами.
Вполне в духе времени, будучи верным самой действительности, а также внутренней логике характеров персонажей, Чехов воссоздает тот культурный контекст, в котором жила русская интеллигенция рубежа XIX–XX веков. Если говорить об искусстве, то это прежде всего чрезвычайно модные течения импрессионизм и постимпрессионизм, о приверженности которым Чехова писали многие критики, в том числе Д. С. Мережковский, Н. К. Михайловский, А. С. Глинка (Волжский) и другие. Чехова называли «бессознательным импрессионистом», «натуралистом-импрессионистом», «символистом-импрессионистом» и тем самым «переносили его истоки на европейскую почву» [2, с. 136]. Некоторые коррективы в концепции старой критики внесли позднейшие исследователи, указав, что импрессионистская поэтика способствовала углублению чеховского реализма» [7].
Но тут следует отметить, что именно в чеховедении как нигде распространен принцип отождествлять мнение героя и позицию автора. Конечно, это в значительной степени провоцирует сам Чехов своей необычной манерой повествования, сложным переплетением планов повествователя и персонажа, субъекта и объекта повествования. Однако в случае с «Вишневым садом» сама структура драматургического текста позволяет отделить ремарки автора от монологов героев и тем самым разделить элементы экфрасиса, выдержанные в русле авторских размышлений и мнений, и те, от которых автор дистанцировался, которые даны от лица героев. Эти заведомо остраненные элементы экфрасиса и попадают в сферу романтической иронии: сам персонаж описывает свои впечатления и наблюдения возвышенно-патетически, книжно-романтически или же сентиментально-слезно, но в контексте целого, в контексте комедийной ситуации его описания попадают в зону авторской иронии, авторской иронической оценки, иронически переосмысляются. И здесь обнаруживается весьма обширная эрудиция Чехова в области современного искусства, русского и европейского, а также его умение выстроить свою концепцию ненавязчиво, но очень явственно.
Известно, что Чехов интересовался современным искусством, импрессионизмом как течением и был хорошо осведомлен в данной области: дружил с Левитаном, которого ставил много выше иностранных живописцев, обсуждал с ним эти проблемы, вместе с А. С. Сувориным бывал на выставках импрессионистов в Париже (1891 и др.) [2, с. 269], не мог не быть на крупнейшей французской художественно-промышленной выставке в Москве 1891 г. и масштабной выставке французского современного искусства 1896 г. (Москва и Петербург), где были представлены полотна К. Моне и Ренуара. В России интерес к этому направлению был велик. Еще в 1876 г. журнал «Вестник Европы» опубликовал обзорную статью Э. Золя о второй выставке импрессионистов в Париже и творчестве ведущих художников этого направления. В 1890-е гг. в России о нем знали широко, о нем спорили ценители искусства, о нем говорили применительно к литературе (Д. Мережковский, Л. Толстой и др.). В 1900 году в Париже состоялась Всемирная выставка, ставшая апофеозом мирового признания импрессионистов и вызвавшая активный отклик в России.
Многие фрагменты «Вишневого сада», микросюжеты высказываний, то есть реплик и монологов героев, а также авторские ремарки, некоторые мизансцены находят свои параллели в полотнах европейских художников-импрессионистов или их последователей (постимпрессионистов и символистов). Случайно ли комнаты Раневской именуются «белая» и «фиолетовая»? Может быть, причиной тому не столько «французские корни характера» [13] этой героини, а ее вкус, сложившийся под влиянием французских импрессионистов?
В данном контексте особенно обращает на себя внимание рассказ Лопахина о маковом поле («Я весной посеял маку тысячу десятин и теперь заработал сорок тысяч чистого. А когда мой мак цвел, что это была за картина! Так вот я, говорю, заработал сорок тысяч»), который остается вне поля зрения комментаторов «Вишневого сада». Этот монолог явно содержит свернутый экфрасис и отсылает к популярной у европейских импрессионистов теме маковых полей. Чехов вводит аллюзию прежде всего на серию картин Клода Моне, представленную такими полотнами (и их многочисленными серийными вариантами, эскизами), как «Маковое поле в Живерни» (1890), «Стог сена в Живерни» (1886), «Поле маков у Аржантея» (1873). Все эти пейзажи передают впечатление ветреной погоды, быстро меняющейся от солнечной к пасмурной; стог сена, помещенный на переднем плане, помогает выде- лить средний план – склоненные ветром к земле цветущие заросли маков; красные маки сочетаются с излюбленной у Моне топикой – тополями, похожими на человеческие фигуры, и стогами сена; на самой известной картине маковое поле служит обрамлением для изображения дворянской усадьбы и стаффажных фигур женщины с ребенком, причем эти фигуры обозначены дважды, на заднем и переднем планах, чтобы дать зрителю ощущение динамики. Возникает ассоциативная связь с чеховской пьесой, где о маленьком сыне Любови Андреевны Раневской, утонувшем в семилетнем возрасте, также говорится несколько раз, чтобы вызвать у зрителя и читателя впечатление движения времени.
Чехов создает амбивалентный образ героя: Лопахин, как и многие «нетипичные» русские капиталисты (тот же П. Третьяков), любит искусство и ценит красоту («А когда мой мак цвел, что это была за картина!»), слово «картина» в его речи присутствует неслучайно, но вместе с тем он коммерсант, думающий о прибыли. И Чехов поддерживает эту ассоциативную связь упоминанием о прибыли в 40 тысяч: известно, что импрессионисты, поначалу отвергаемые эстетами и подвергнутые обструкции беспощадной критикой, очень скоро стали цениться весьма высоко, их картины скупали американские коллекционеры, художники, тот же Моне, стали получать высокие гонорары, о чем широко писалось в отчетах о выставках импрессионистов, и в начале 1890-х гг. Моне уже зарабатывал по 100 тысяч франков в год [14, с. 331]. «Импрессионист» из слова ругательного превратилось в обозначение вполне успешного и модного художника.
Характерно, что Лопахин, восхищаясь красотой («то-то была картина!»), не забывает упомянуть, что эта красота позволила ему заработать сорок тысяч чистого дохода. Монолог Лопахина – типичный «чеховский иероглиф». Этот термин применительно к «Чайке» использовал М. П. Громов [2, с. 3], но его можно использовать и при характеристике других образов и произведений Чехова. В данном случае «иероглиф» уместнее, нежели «символ», «аллюзия», «метафора». Смысл этого выражения ближе всего, пожалуй, к слову «экфрасис», так как за внешним графическим изображением-описанием кроется дополнительный смысл, некая внутренняя форма. В данном случае Чехов зашифровал обращение своего героя Лопахина не только к удачному коммерческому проекту, но и к памяти и культурному опыту читателя. Не случайно ведь у Лопахина «тонкая, нежная душа и пальцы, как у артиста».
Добавим, что тему маков широко использовал и такой художник, уже из поколения постимпрессионистов, как Ван Гог. Он известен не только своими «Подсолнухами», но и рядом других запоминающихся образов, в том числе маками в натюрмортах и пейзажах. Маки присутствуют на таких его полотнах 1880–1890-х гг., как «Ваза с васильками и маками», «Ваза с красными маками», «Красные маки и ромашки», «Маки и бабочки», «Поле с маками», «Край пшеничного поля с маками», «Зеленые пшеничные колосья», «Пшеничные поля близ Овера», «Пейзаж в Овере» и др. Но если у Моне изображение маковых полей передавало трепет живой жизни, то у Ван Гога маки создают впечатление тревоги, драматизма, изломанности судьбы. И этот смысловой нюанс тоже находит соответствие в структуре образа Лопахина: этот герой не прямолинейный, не схематичный, а рефлексирующий, остро чувствующий, страдающий.
Надо сказать, что многие сюжеты Ван Гога, начинавшего свой путь в русле реалистической живописи и лишь на более зрелом этапе обратившегося к приемам авангардного искусства, типологически близки микросюжетам чеховской пьесы. Например, вспомним известный эпизод с потерянными Петей Трофимовым кало- шами: «В аря . Петя, вот они, ваши калоши, возле чемодана. (Со слезами.) И какие они у вас грязные, старые…» Слезы Вари обусловлены ее собственными переживаниями, но на метатекстовом уровне могут быть отнесены, конечно, и к Петиной судьбе – этот «вечный студент» и «бесприютный скиталец» долго будет бродить по дорогам русской жизни в разбитых башмаках. Грязные, старые калоши Пети можно воспринимать как свернутый экфрасис, основанный на известной серии из шести картин Ван Гога, посвященных башмакам (1887). Свернутый экфрасис рассчитан на читательское восприятие, на работу читательского воображения, добавляющего недостающие элементы и воссоздающего целостную картину.
Знаменитая картина Ван Гога «Едоки картофеля» (1885), а также «Голова крестьянки» и другие, изображающие простых людей, вызывают в памяти подробности жизни прислуги в доме Раневской: «В аря . Распустили слух, будто я велела кормить их одним только горохом. От скупости, видишь ли». Именно в людской сидит несколько дней мать Яши, простая крестьянка, надеясь повидать своего сына. Обстановку бедности, скудости, подавленного настроения, душевных страданий и бесконечного терпения может воспроизвести в своем воображении читатель чеховской пьесы, особенно знакомый с картинами Ван Гога.
У голландского художника существовало собственное понимание пейзажа, близкое чеховскому: выражение субъективного, внутреннего восприятия природы через аналогию с человеком. Кредо художника выражено в словах: «Когда рисуешь дерево, трактуй его как фигуру» [1]. Этот принцип получил воплощение в таких картинах художника, как «Персиковое дерево в цвету» (1888), «Весна. Арль» (1888), «Оливковая роща с белым облаком» (1889), «Сельская дорога с кипарисами» (1890) и др. Не учитывая этот принцип, невозможно до конца понять такой эпизод:
«Л ю б о в ь Андр е е в н а . Посмотрите, покойная мама идет по саду… в белом платье! <…> Это она. <…> Направо, на повороте к беседке, белое деревцо склонилось, похоже на женщину… <…> Какой изумительный сад! Белые массы цветов, голубое небо…».
Этот экфрасис основан не только на сюжетах, близких к сюжетам Ван Гога, но и, судя по цветовой гамме, апеллирует к картинам Левитана («Цветущие яблони», 1896).
Существует интересная концепция о близости свето-воздушных серийных пейзажей Моне и пейзажных страниц Чехова – автора «Степи» [18]. Но дело не только в технике письма (полутона, полутени, игра света и цвета) и принципе серийности (степь утром, днем, в сумерках, ночью…) или «резонантности» (этот не совсем по-чеховски звучащий термин предложен недавно для обозначения принципа повторяемости как важнейшего принципа поэтики Чехова, который в свое время изумительно тонко и глубоко охарактеризовал М. П. Громов [2] на том же материале и с теми же примерами, что и автор новейших публикаций [5; 6]). Вопрос еще и в том, с какой целью Чехов использовал эти новаторские, подчас экспериментальные методы и приемы. Не случайно И. Е. Репин и Крамской, обсуждая новации импрессионистов и восхищаясь ими, признали, что в русском искусстве главным остается содержание, смысл. Сопоставляя Чехова с импрессионистами, нельзя ограничиться только внешней стороной, совпадениями на уровне формы. Думается, именно благодаря своей содержательности пейзаж и экфрасис Чехова гораздо ближе к картинам Ван Гога, нежели К. Моне.
Прежде всего стоит обратить внимание на многочисленные картины Ван Гога, изображающие поля. Как правило, на переднем плане показан крестьянский труд, фигуры крестьян, повозки, орудия труда, колосья, средний план представлен как перемежающиеся фрагменты по-разному ритмизованного пространства, что создает эффект простора, дали, а на заднем плане показывается город, дымящие трубы заводов и фабрик, железная дорога, вагоны поезда, дымящий паровоз. Подобная ритмическая композиция присутствует на таких полотнах, как «Вид Арля. Жатва» (1888), «Жатва. Долина ла Кро. Арль» (1888), «Дорога в Овере после дождя» (1890), «Поля в Овере» (1890). Остро переживаемое столкновение двух цивилизаций, двух культур – индустриальной, урбанистической и деревенской, патриархальной – вот истинно философский смысл и значение картин Ван Гога.
Но именно такой пейзаж есть и во многих произведениях Чехова – например, в повести «Степь» (1888) мальчик Егорушка, подъезжая к большому городу, видит картину: «Обоз стоял на большом мосту, тянувшемся через широкую реку. Внизу над рекой темнел дым, а сквозь него виден был пароход, тащивший на буксире баржу. Впереди за рекой пестрела громадная гора, усеянная домами и церквами; у подножия горы около товарных вагонов бегал локомотив». Автор «Степи» приводит своего героя на границу двух миров – древнего, первобытного, укорененного в глубинах истории, и новорожденного, олицетворяющего собой прогресс, – и ставит философский вопрос – «вопрос о Боге, о поисках веры современным «русским мальчиком»» [11, с. 105].
Второе действие «Вишневого сада» начинается развернутой авторской ремаркой: «Поле. Старая, покривившаяся, давно заброшенная часовенка, возле нее колодец, большие камни, когда-то бывшие, по-видимому, могильными плитами, и старая скамья. Видна дорога в усадьбу Гаева. В стороне, возвышаясь, темнеют тополи: там начинается вишневый сад. Вдали ряд телеграфных столбов, и далеко-далеко на горизонте неясно обозначается большой город, который бывает виден только в очень хорошую, ясную погоду. Скоро сядет солнце» [19, с. 215]. Слова «бывает виден только в очень хорошую, ясную погоду» и «Скоро сядет солнце» могут показаться чужеродными в структуре драматургического текста. К кому они обращены? Зритель в театре их не услышит. Художник-декоратор их передать не сможет, если только он не использует какие-либо приемы импрессионистов. Это типичный чеховский экфрасис, обращенный к читателю. Заброшенная часовня и кладбище на переднем плане противопоставлены огням большого города.
Известно, что в ходе работы над спектаклем Чехов требовал, чтобы декорации передавали необычайную для сцены даль и на горизонте был виден маленький паровозик. По большому счету, этот экфрасис тоже служит выражению главной авторской мысли о драматизме столкновения нового и старого, промышленно-желез-ного и патриархально-деревенского. Стоит отметить, что железная дорога как символ нового века изображалась в живописи довольно часто (ср.: Камиль Писсарро. «Железная дорога в Дьеппе» (1886); Исаак Левитан. «Полотно железной дороги» (1898–1899); «Полустанок» (1880-е)).
Отметим принципиальное отличие пейзажей Ван Гога (который, кстати, начинал свою карьеру проповедником) от чеховских и левитановских. В чеховском экфрасисе присутствует часовня, хотя и заброшенная. У Левитана пейзаж часто одухотворен с помощью образа церковки, колокольни и т. п. (см.: «У церковной стены. Этюд», 1885; «Тихая обитель», 1890; «Вечерний звон», 1892; «Над вечным покоем», 1894). Ван Гог в свои сельские пейзажи не вписывает даже самых маленьких церквушек, сосредоточивая усилия на передаче ритмов пространства (с помощью горизонтальных, вертикальных, кривых линий), на создании впечатления необычайной дали и элементов промышленного пейзажа на горизонте. На переднем плане у него, как правило, изображены фигуры крестьян, именно они даются в антитезе далекому городу. Для Ван Гога актуальна проблема «человек – технический прогресс», для Чехова – «человек – прогресс – поиски веры».
Чтобы завершить сопоставления с Ван Гогом, назовем еще картину «Ночное кафе. Арль» (1888), которая затрагивает сюжет игры на бильярде. Напомним звучащие в пьесе Чехова многочисленные бильярдные термины Гаева, упомянутый кий, сломанный Епиходовым, сам бильярд, который находится в соседней комнате, и поэтому зритель не видит игру на бильярде, только слышит голоса игроков. Эту серию чеховских деталей и подробностей в ее совокупности можно рассматривать как дискретный экфрасис (или даже диегезис), соотнесенный с конкретным артефактом – картиной Ван Гога. На полотне Ван Гога нет человека – его вытеснил бильярд. Так художник отобразил философию жизни-игры. У Чехова предметно-вещный мир, связанный с бильярдом, остается за сценой («Слышно, как в соседней комнате играют на бильярде», и затем Яша ябедничает: «Епиходов бильярдный кий сломал!»), зато речь Гаева (гаера, клоуна, шута) имеет чисто игровой характер, и Чехов показывает, кем становится человек, воспринимающий жизнь как игру.
Другая ветвь импрессионизма (даже постимпрессионизма, близкого к символизму) представлена творчеством художника Одилона Редона. Самые известные его картины – «Болотный цветок» (1885), «Летающее чудовище» (1890), «Глаз как шар» (рис. углем), «Крылатая голова над водами» (рис. углем). Редон посвятил свои творческие эксперименты изображению таинственного, мистического, и прижизненная критика оценивала его весьма резко: «Редон показывает нам, например, глаз, плывущий на конце стебля в бесформенном пейзаже. И вот собираются комментаторы. Одни уверяют нас, что глаз этот изображает око Совести; другие объявляют, что это око Неопределенности; третьи объясняют, что глаз этот синтезирует солнце, заходящее за гиперборейскими морями; четвертые, – что он символизирует мировую скорбь, причудливую водяную лилию, распустившуюся на черных водах невидимого Ахерона.
Наконец, является самый мудрый толкователь и заключает: этот глаз на конце стебля – просто булавка для галстука. Сама суть этого идеала в том, что он не вызывает представления ни о чем, кроме неопределенных форм, которые с одинаковым успехом могут быть магическими озерами и священными слонами, неземными цветами и булавками для галстука, а вероятнее всего вообще ничего не изображают. Однако сегодня мы требуем, чтобы любая изображаемая вещь была точной; мы хотим, чтобы образы, порожденные мыслью художника, двигались, мыслили и жили» [14, с. 112].
Но были среди критиков и ценители таинственного: «Сегодня я восхищаюсь вами больше, чем любым другим художником: ни один из них не открыл моей душе столь светозарных дальних и мучительных горизонтов Таинственного, которое и есть единственно реальная жизнь» [Там же, с. 115]. Сам художник утверждал: «Я просто приоткрыл дверцу в тайну. Я создал вымысел. Их дело пойти дальше»; Редон «давал умам зрителей возможность развивать образы, которые он предлагал их воображению» [Там же, с. 113]. Такая поэтика (опора на читательское воображение и восприятие), конечно, близка чеховской манере и эстетическим принципам.
Глаз, который смотрит на весь окружающий мир, с высоты птичьего полета, изображенный Редоном, действительно похож на булавку для галстука, а также на воздушный шар, всплывающий над деревьями, полями, морями, горами и позволяющий человеку обозреть величественную картину природы. Этот глаз сам является частицей природы и вместе с тем он выше, прозорливее. Действительно, его можно соотнести с Недреманным оком, Оком совести. И с этим артефактом соотносится чеховский свернутый экфрасис – в монологе Пети Трофимова: «Неужели с каждой вишни в саду, с каждого листка, с каждого ствола не глядят на вас человеческие существа, неужели вы не слышите голосов». Слова Пети Трофимова о душах умерших крепостных, которые глядят с каждого цветка, с каждой ветки в саду, соответствует картине Редона «Глаз как шар». Не случайна деталь в рассказе Ани: «А я в Париже на воздушном шаре летала!» Критики смеялись, утверждая, что глаз – воздушный шар Редона – это всего лишь булавка для галстука, и Чехов тут же поддерживает контекст: «У тебя брошка вроде как пчелка. – Это мама купила». Французская мода – природные объекты делать предметами искусства, преображать их в игре цвета и света, в диалоге человека и природы.
Импрессионисты рисовали не только пейзаж, но и жанровые сцены, что особенно важно в контексте выявления импрессионистического экфрасиса в «Вишневом саде» как произведении комедийного жанра. Художнику Сёра принадлежат такие нашумевшие картины, как «Воскресная прогулка на острове Гранд-Жатт» (1884–1886), «Парад» (1887–1888), «Канкан» (1889–1890), «Цирк» (1890–1891). Сёра эпатировал публику не только своей манерой пуантилизма (за что был обвинен в «пуантилистских сатурналиях»), но и, прежде всего, тематикой, отбором сюжетов, которые казались непристойными. Критика неистовствовала:
«Канкан» – это «не что иное, как неистовый спазм задыхающегося карлика или вурдалака в периоде течки! <…> Танцовщицы его … так пикантны, что у меня захватывает дыхание, и, я уверен, не один человек стоит перед ними, разинув рот и стиснув руки, загипнотизированный лихорадочными восторгами чудовищной, унизительной непристойности. <…> …наибольший интерес вызывает Сёра, один из потерявших разум мастеров, который оказал сильнейшее влияние на «Группу двадцати». «Канкан» в еще большей степени, чем «Гранд-Жатт», вызвавшая в свое время всеобщий смех, дает точное представление, в какое заблуждение можно впасть, опираясь на заумную доктрину этого художника, заключающуюся в отрицании всего, что существует, и в придумывании взамен некой новой формулы. Сёра, этот создатель искусства живописать пятнами сургуча, этот открыватель давно открытого, отмеченный печатью гения, малюет и мажет с великолепной невозмутимостью пациента сумасшедшего дома» [Там же, с. 296].
Отметим, что пуантилизм как художественный прием подвергался осмеянию как таковой, и во французской прессе появлялись анекдоты и юморески вполне в чеховском духе, в которых говорилось, что картины пуантилистов словно бы засижены мухами: «Муниципалитет распорядился закрыть выставку «Группы двадцати»: трое посетителей заболели оспой, которую подцепили перед картиной, выполненной точками; остальные охвачены ужасом. Некая светская молодая дама сошла с ума. Наконец, говорят, хотя факты не проверены, что жена одного провинциального мэра, имевшая неосторожность посетить выставку, находясь в интересном положении, разрешилась от бремени татуированным ребенком» [Там же, с. 297]. Выскажем предположение, что Чехов тоже отдал дань критике пуантилизма в повести «Степь» (1888), где на постоялом дворе Мойсей Мойсеича висит гравюра с надписью «Равнодушие человеков»: «К чему человеки были равнодушны — понять было невозможно, так как гравюра сильно потускнела от времени и была щедро засижена мухами». Чеховская ирония в рамках живописного экфрасиса представляется глубоко продуманной, отнюдь не случайной.
Зато сюжеты четырех вышеназванных картин Сёра вполне сопоставимы с экфрасисами «Вишневого сада». «Воскресная прогулка на острове Гранд-Жатт» может служить иллюстрацией к следующей чеховской сцене: «Через сцену, опираясь на палочку, торопливо проходит Фирс, ездивший встречать Любовь Андреевну; он в старинной ливрее и в высокой шляпе; что-то говорит сам с собой, но нельзя разобрать ни одного слова. <…> Любовь Андреевна, Аня и Шарлотта Ивановна с собачкой на цепочке, одетые по-дорожному. Варя в пальто и платке, Гаев, Симеонов-Пищик, Лопахин, Дуняша с узлом и зонтиком, прислуга с вещами – все идут через комнату». Этакий парад-алле, дефиле, в котором участвуют такие же персонажи и присутствуют такие же атрибуты (зонтик, собачка/обезьянка на цепочке, шляпы, саквояжи), что и на картине Сёра. Этот художник так комментировал свой замысел: «Панафинеи Фидия были процессией. Я хочу показать современных людей, двигающихся, как фигуры на фризах, раскрыть их сущность и поместить их на картинах» [Там же, с. 83].
Картина Сера «Парад» изображает оркестр, музыканты которого выстроены, «как фигуры на фризах», и может служить иллюстрацией/декорацией к сцене с еврейским оркестриком в пьесе Чехова. Фокусы и сальто-мортале гувернантки Шарлотты могут быть проиллюстрированы полотнами Сёра «Цирк» и «Канкан»: «В зале фигура в сером цилиндре и в клетчатых панталонах машет руками и прыгает».
О Шарлотте Ивановне принято говорить, что эта «цирковая клоунесса сгущает лирическую тему Чехова и проясняет ее общечеловеческое содержание, она играет <…> ту же роль, что бродячие гимнасты и клоуны в творчестве Пикассо голубого и розового периода» [3, с. 370]. Но на самом деле литературный прообраз Шарлотты – это «одна из петербургских «камелий», описанных в цикле очерков И. И. Панаева «Петербургская жизнь», публиковавшихся в журнале «Современник» (1857). Автор очерков констатирует, что судьбы современных «камелий» не столь уж и плачевны» [10, с. 118]. «Эти дамы», дамы «без прошлого», успешно отстаивают свои права, вытесняя из жизни «добропорядочные» семейства: «Рассказывают, что такого рода дамы во время оно … кончали, по большей части, свое поприще очень печально – в больнице и в нищете. И, таким образом, порок был достойно наказываем… В наше время не то: он не казнится ни в жизни, ни в романах… В наше время … все эти Шарлотты Федоровны, Берты, Луизы, Армансы… превращаются в майорш Ивановых, Петровых, Фокиных и т. п.» [12, с. 148]. И, конечно же, не сгущенный лиризм Пикассо, а иронический потенциал картин Сёра наиболее точно передает сущность образа Шарлотты и чеховское отношение к ней.
Таким образом, в пьесе «Вишневый сад» Чехов очень широко использует прием экфрасиса (по преимуществу свернутого, с учетом специфики драматургического произведения и его текстопостроения), в основном обращая его на европейскую культуру, на искусство импрессионизма и постимпрессионизма. Введение в текст пьесы данного образного пласта обусловлено авторской позицией, системой ценностей и онтологическими представлениями Чехова.
Позиция Чехова такова: все его герои находятся под обаянием европейской культуры, их ментальность изменилась, они утрачивают национальную идентичность. Потому персонажи и показаны могут быть только с помощью импрессионистического экфрасиса. Все действующие лица комедии не хотят оставаться в России или, по крайней мере, в этом имении, в этом вишневом саду, они мечтают уехать отсюда рано или поздно: Раневская и Яша едут в Париж, Шарлотта ищет себе новое место, Гаев намерен служить в банке, даже Лопахин не остается в купленном им имении, а отправляется в Харьков. Симеонов-Пищик устраивает свою судьбу, заключив договор аренды с англичанами, которые нашли на его земле белую глину. Дочь его Дашенька живет по принципам великого немецкого философа («фальшивые бумажки делать можно»).
Любовь к России и к вишневому саду, к родному дому и тем более к «детской», к белой или фиолетовой комнате, к «шкафику», к «столику» – все это миф [4], иллюзия, мимолетное видение, мгновенное впечатление. Петя Трофимов уверяет: «Вся Россия – наш сад». Мы везде найдем себе пристанище. Сад не онтологическая категория для героев пьесы, а ценностная, то есть изменчивая. Ее даже можно измерить, исчислить в деньгах. Фирс упоминает, что когда-то сад давал большие урожаи, поэтому денег было не счесть! Для героев «Вишневого сада» нет абсолютных ценностей, у российской интеллигенции ценности преходящи и вполне заменяемы. Можно насадить другой сад, ничего страшного. Вот и Аня говорит «Мы… будем… читать разные книги… <…> …и перед нами откроется новый, чудесный мир». Мир книжный, воображаемый, а не реальный. Вслед за Достоевским Чехов осуждает «русских европейцев», «лакеев мысли». Все они – перелетные птицы, обобщенные в образе-символе Прохожего. Чехов маркирует всех своих героев с помощью импрессионистического экфрасиса.
Очевидно, назрела необходимость, обращаясь к «Вишневому саду», использовать понятие «русская идея», имевшее особую актуальность в русской литературе и философии на рубеже XIX–XX вв. и сохранившее эту актуальность теперь, уже на рубеже XX–XXI вв., вплоть до поэзии Ю.П. Кузнецова, «вписанной в культурное пространство всей русской литературы» [16, с. 68], и других «почвенников», «указывающих духовный путь русскому народу» [15, с. 87]. Российская интеллигенция, по наблюдениям Чехова, эту идею утратила. Кстати, один из критиков Чехова, впервые назвавший его импрессионистом, – Д. С. Мережковский – использовал именно чеховские мифологемы и образы в «полемике русских философов в начале XX века о путях русской истории», «иронизируя над “русской идеей” В. Соловьева и Вяч. В. Иванова, смеясь над тем, что в России якобы решается “вопрос мировых судеб”, отрицал, что «народ наш – “христоносец” по преимуществу», что он, «подобно св. Христофору, через темный брод истории несет он на плечах своих младенца Христа» [8, с. 8–9]. Это еще одно подтверждение правоты Чехова. Мережковский, этот средний российский интеллигент, вполне мог бы быть одним из героев «Вишневого сада».
Импрессионистичность, сиюминутность, эфемерность, иллюзорность, текучесть ценностей и взглядов российской интеллигенции – вот предмет осуждения и осмеяния Чехова, вот основа комедийной жанровой сущности пьесы.
Для самого Чехова онтологическая сущность в этой комедии – Россия, показанная не риторически, а вполне реалистически, с помощью символического образа русской женщины – матери Яши, которая пришла повидаться, а потом проститься со своим «оевропеившимся» сыном, но так и не встретилась с ним.
Список литературы Импрессионистический экфрасис в пьесе А.П. Чехова "Вишневый сад"
- Ван Гог, Винсент //ВикипедиЯ. Свободная энциклопедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ван_Гог,_Винсент. (Дата обращения: 24.02.2018.)
- Громов М. П. Книга о Чехове. М.: Современник, 1989. 384 с.
- Зингерман Б. И. Театр Чехова и его мировое значение. М.: Наука, 1988. 521 с.
- Катаев В. Б. «Вишневый сад» как элемент национальной мифологии//Чеховиана. «Звук лопнувшей струны». К столетию пьесы «Вишневый сад». М.: Наука, 2005. С. 9-18.
- Катаев В. Б. Пьесы Чехова как резонантное пространство//Anton P. Cechov -der Dramatiker/Drittes internationales Cechov Symposium. Badenweiler im Oktober 2004. Herausgegeben von Regine Nohejl und Heinz Setzer/Die Welt der Slaven. Sammelbande. Сборники. Band 44. Verlag Otto Sagner, Munchen -Berlin -Washington, D. C., 2012. P. 161-167.
- Катаев В. Б. «Степь»: драматургия прозы//Таганрогский вестник: Материалы международной научно-практической конференции «‘‘Степь’’ А. П. Чехова: 120 лет». Таганрог, 2008. С. 3-9.
- Кулиева Р. Г. Реализм А. П. Чехова и проблема импрессионизма. Баку: Элм, 1988. 186 с.
- Мережковский Д. С. Земля во рту//Религиозно-философское общество в Санкт-Петербурге: История в материалах и документах. 1907-1917: В 3 т. Т. 2. М.: Русский путь, 2009. С. 7-17.
- Николаева С. Ю. Балладное и притчевое начала в рассказе А. П. Чехова «Ведьма»//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2013. № 19. Вып. 4. С. 67-75.
- Николаева С. Ю. Гувернантка или клоунесса? (Феномен чеховской Шарлотты)//Драма и театр: Сб. науч. тр. Тверь: Тверской гос. ун-т, 2002. С. 116-121.
- Николаева С. Ю. Философский контекст в повести А.П. Чехова «Степь»//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2014. № 3. С. 100-107.
- Панаев И. И. Петербургская жизнь//Современник. 1857. № 3. С.143-167.
- Полоцкая Э. А. Французские корни характера Раневской//Полоцкая Э. А. «Вишневый сад». Жизнь во времени. М.: Наука, 2004. С. 344-359.
- Ревалд Дж. Постимпрессионизм. Л.: Искусство, 1962. 464 с.
- Редькин В. А. Роль «Слова о Законе и Благодати» Илариона в поэме-цикле Ю.П. Кузнецова «Путь Христа»//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2010. № 21. Вып. 5. С. 81-87.
- Редькин В. А. «Русская идея» Юрия Кузнецова//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2004. № 2 (4). Вып. 1. С. 48-68.
- Соболев Ю. В. Чехов. М.: Журнально-газетное изд-во, 1934. 336 с.
- Тамарли Г. И. Чехов и Клод Моне: концепция пейзажа//Тамарли Г. И. Синхронный диалог Чехова с культурой. Таганрог: Таганрогский гос. лит. и историко-архитектурный музей-заповедник, 2014. С. 39-54.
- Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Т. 13: Пьесы. 1895-1904. М.: Наука, 1986. 524 с.