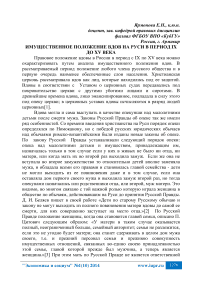Имущественное положение вдов на Руси в период IX до XV века
Автор: Ярмонова Е.Н.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Статья в выпуске: 1-2 (10), 2014 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/140106663
IDR: 140106663
Текст статьи Имущественное положение вдов на Руси в период IX до XV века
Правовое положение вдовы в России в период с IX по XV века можно охарактеризовать путем анализа имущественного положения вдов. В рассматриваемый период положение любого члена русского общества и в первую очередь наименее обеспеченные слои населения. Христианская церковь рассматривала вдов как лиц, которые находились под ее защитой. Вдовы в соответствии с Уставом о церковных судах передавались под покровительство церкви с другими убогими лицами и сиротами. В древнейшие времена вдова, лицо эмансипированное, подпадала в силу этого под опеку церкви; в церковных уставах вдовы исчисляются в разряд людей церковных[1].
Вдова могла и сама выступать в качестве опекунши над малолетними детьми после смерти мужа. Законы Русской Правды об опеке так же имели ряд особенностей. Со времени введения христианства на Руси порядок опеки определялся по Номоканону, но с победой русских юридических обычаев над обычаями римско-византийскими были изданы новые законы об опеке. По закону Русской Правды устанавливали следующий порядок опеки: опека над малолетними детьми и имуществом, принадлежащим им, назначалась только в том случае если у них в живых не было ни отца, ни матери, или когда мать их во второй раз выходила замуж. Если же она не вступала во второе замужествство то относительно детей вполне заменяла мужа, и обладала всеми его правами и становилась главой семейства - дети не могли выходить из ее повиновения даже и в том случае, если она оставляла дом первого своего мужа и выходила замуж второй раз, но тогда опекунами назначались или родственники отца, или второй, муж матери. Это видимо, во многом связано с той важной ролью которую играла женщина в обществе по обычаям, действовавшим на Руси до принятия Русской Правды. Д. И. Беляев пишет в своей работе «Дети по старому Русскому обычаю и закону не могут выходить из полного повиновения матери вдовы до самой ее смерти, для них совершенно заступает на место отца.»[2] По Русской Правде положение женщины, когда она становится главой семьи, описано П. Цитович следующим образом: «У матери в таком случае оказывается полный, неограниченный больше, семейный авторитет; семья не разложится, если это не угодно будет матери; она станет сдерживать в целом дом мужа своего, т.е. и прежний персонал семьи и прежнюю совокупность имущественных отношений, связанных во-едино своею принадлежностью этой семье, главой которой прежде был мужчина, а теперь является женщина.»[3] При этом мать по Русской Правде не является ответственной за имущество перед детьми. Только при вступлении во второй брак мать должна была возместить те имущественные потери, которые понесли дети во время ее опекунства. «Аже жена ворчеться седети по мужи, а растерять добыток и поидеть за муж, то платити еи все детем»[4]. При замужестве вдовы и передачи имущества покойного опекунам такая передача осуществлялась перед свидетелями, которые назначались от самого общества. Опека прекращалась с достижением опекаемыми такой зрелости, когда сами собой «печеловати»[5]. По окончании опеки, когда дети вырастут, опекун обязывался сдать это имение тоже при свидетелях, и если что-либо из него затрачивалось опекунами, то опекуны обязаны были уплатить утраченное по опеке. Но до окончания воспитания детей, во время управления их имениями, опекуны пользовали всеми доходами, получаемыми с земли и со всего имения. Интересный пример поведения отчима, растратчика имущества пасынка содержится в берестяной грамоте № 112 (XIII)[6]: «кою Лар оу… пояле исполовницу мою, телицоу вода…[?] т… о племени мои ли ти тяжа, а поеди во городо хоняжи на тои грамоте господни.» Объяснение, которое дает Л.В. Черепнин, сопоставляя текст грамоты с нормами законодательства вполне убедительно доказывает, что речь в грамоте идет о опекуне, которым скорее всего является или близкий родственник или что скорее всего отчим, так как наряду с ним упоминается «осподине» - «госпожа», видимо мать, вышедшая второй раз замуж[7]. На практике нормы древнерусского законодательства, судя по тому, что мы видимо, в грамоте №112 видим обращение за защитой прав в судебноадминистративные органы, действовали.
Это положение дополняло Судный закон, в котором говорилось только об опеке и наследстве по завещанию; об опеке по закону в нем не упоминалось. Законы об опеке, составленные в дополнение Судного Закона, заимствованы из исконных русских обычаев. Опека над малолетними детьми назначалась по Русской Правде только в том Случае, когда мать их снова выходила замуж; по римским же законам и над самой матерью назначалась опека. Такой порядок существовал во всей Западной Европе, где женщина постоянно находилась под опекой отца, мужа или же старшего сына, и законодательство западноевропейских государств во взгляде на женщину резко отличалось от древнерусского законодательства. В Италии мужчины часто включали в свои завещания условия об утрате всего имущества, завещанного женщине в случае если она второй раз выходила замуж. Естественно это положение, да и отношение к вопросу вторичного замужества вдов и вдовцов со стороны церкви осложняли возможности женщин вторично выйти замуж. В то же время во многом положение женщины зависит от ее личностных особенностей, ее достатка и социального положения. И если, как правило, говоря о положение женщины в Италии X-XIII вв. мы останавливаемся на том что это женщины не обладающие в течении всей своей жизни дееспособностью в полном объеме и находящиеся под опекой отцов, братьев, мужей и даже взрослых сыновей, все же мы видим примеры когда женщины отстаивают свои имущественные права, и даже оставляют свое имущество в наследство мужу до тех пор, «пока он будет оберегать мое ложе»[8]. В то же время если мы говорим о Португалии XII в. то здесь законы высказывают однозначно положительное отношение к вступлению во второй брак как для вдовцов так и для вдов[9].
Следует также помнить, что в соответствии с Русской Правдой вдова могла сама определить своего наследника, при чем им мог быть как ее сын так и дочь, как от первого брака так и от второго, а в ряде случаев ее боковые родственники или даже иные лица[10]. Важные черты правового положения женщин в Древней Руси можно увидеть, если рассмотреть факт усыновления вдовою Феодосьей Тимошки[11]. Вдова Федосья с благословения церкви усыновляет Тимошку и потом делает его своим наследником и наследником своего умершего мужа. Этот пример показывает высокий социальный и правовой статус женщины, дающей ей возможность самостоятельно усыновлять и фактически самостоятельно распоряжаться судьбой своего имущества, а также имущества, оставшегося после смерти мужа, если он не оставил конкретных распоряжений на этот счет, или жена после смерти мужа увеличила семейное имущество. Необходимо обратить внимание на то, что наследование по Русской Правде является наследованием по закону, вполне возможно, что такой порядок наследования мог быть изменен и отец мог оставить наследство дочери, равное как и сыновьям, или даже в обход прав сыновей. С.М. Соловьев приводит следующий пример составления завещания в пользу княгинь-вдов и их дочерей князем Владимиром Андреевичем в XV в.: «Если бог отнимет кого-либо из моих сыновей и останется у него жена, которая не пойдет замуж, то пусть она с своими детьми сидит в уделе мужа своего, когда же умрет, то удел идет сыну ее, моему внуку; если же останется дочь, то дети мои все брата своего дочь выдадут замуж и брата своего уделом поделятся все поровну. Если же не будет у нее вовсе детей, то и тогда пусть сноха моя сидит в уделе мужа своего до смерти и поминает нашу душу, а дети мои до ее смерти в брата своего удел не вступают никаким образом»[12]. В данном случае четко определяется право невестки владеть имуществом ее умершего мужа и не допускается покушение на это имущество даже со стороны прямых наследников завещателя. В Русской Правде, по мнению Неволина мы не найдем «запрещения кому-либо из лиц свободного звания составлять духовные завещания»[13]. И только в случае если она не оставляет завещания закон решает этот вопрос самостоятельно, при этом видимо тоже учитывает ее личные склонности и отношение к ней детей. А. Куницын по этому поводу указывает «И, в случае смерти ее без завещания, закон отдает эту часть ее тому, у кого она жила, и кто кормил ее»[14].
В более сложном положении оказывалась бездетная вдова, которая после заключения брака утратила правовую связь со своей семьей, а после смерти мужа теряла такую связь и с семьей мужа, если таковая имелась, не приобретя новой связи через детей. Видимо, в такой ситуации мы сталкиваемся с «передачей» жены под опеку ближайшему родственника по мужской линии или духовному лица, что было духовенству выгодно. Но так происходило не всегда, С.М. Соловьев приводит такой пример, наследства бездетной жены за мужем всего его имущества: «Из шести сыной Симеона Гордого ни один не остался в живых; Симеон завещал весь свой удел, все свое движимое и не движимое имение жене Марии, не означив в духовной, кому все это имущество должно принадлежать по ее смерти»[15].
Статья 93 Русской Правды устанавливает наследственные права вдовы. Если вдова не выйдет еще раз замуж «сядет по муже», она получает на жизнь определенную часть имущества мужа «выдел». В Синодальном списке уточняется, откуда должна быть взята эта часть, — за счет уменьшения доли взрослых детей. Кроме того, вдова остается собственницей всего того, что было подарено мужем (украшения, одежда и пр., что можно было «возложить» — надеть на нее). Эта норма была связана со стремлением передать имущество отца сыновьям, а право вдовьи на наследство могло привести к уходу его в руки нового мужа вдовы и его детей. Судьба имущества после смерти одного из супругов определяется как в Русской Правде, так и в Эклоге. Из статьи 95-й Троицкого списка мы узнаем, что в составе брачного имущества входила «своя часть жены», то есть, ее приданное, а из статьи 88-й и той же 95-й, что в состав этого имущества входила еще и часть, «что на ню мужъ возложил…»[16]. Так же, анализируя имущество, принадлежащее знатным женщинам мы видим что оно не однородно. Волости, которые принадлежали княгиням, можно разделить на такие которыми они могли пользоваться в течении всей своей жизни, но не могли определить их дальнейшую судьбу или могли это сделать только в том случае, если их муж, отец или свекор, который оставил им завещание не указал в нем судьбу имущества после своей смерти или прямо указал в завещании право жены самостоятельно решить некоторые вопросы, связанные с наследством. В этом случае речь видимо о родовом имуществе, на которое женщины не имели прав собственности, но могли использовать для обеспечения себе достойной жизни и получения определенных приращений, которыми как правило могли уже распоряжаться по собственному усмотрению. Во владении княгинь могли также находиться вотчины, которыми они могли распоряжаться самостоятельно так как считали нужным, это были видимо волости принадлежащие непосредственно княгиням, которые были получены ими в приданное, приобретены за счет собственных средств и средств, которые возникали в случае удачного распоряжения их имуществом. Но С.М. Соловьев выделяет также «такие волости, которые постоянно находились во владении княгинь, назначались на их содержание; эти волости назывались княгинскими пошлыми.»[17] Пример таких волостей он приводит описывая завещание князя Василия Дмитриевича: «Что касается сел княгинских пошлых, то они принадлежат ей, ведает она их до тех пор, пока женится сын мой, после чего она должна отдать их княгине сына моего, своей снохе, те села, которые были издавна за княгинями.» Этот и подобные примеры наводят на мысль, что в родовое имущество помимо имущества преимущественно передаваемого по мужской линии входило имущество, передаваемое исключительно по женской линии. Это имущество также не могло произвольно выходить из владения рода и не относилось к собственности какой-либо конкретной женщины, но в целом составляло женскую родовую собственность.
В Псковском и Новгородском законодательствах гражданские права женщины заметно возвышаются сравнительно с эпохой Русской Правды: имущественные права мужа и жены вполне уравниваются (П.С. Гр. Ст. 88, 89 и 91); женщина призывается к активному участию во всех действиях процесса, даже в судебных поединках (женщины против женщины: ib. ст. 119; в исках против мужчин на поединке женщина заменяет себя наймитом ib. ст. 36)[18]. Псковская судная грамота также содержит в себе нормы касающиеся порядка наследования движимого и недвижимого имущества после смерти супруга. Ст. 89 Псковской судной грамоты указывает: «А у которой жены мужь помрет без рукописания и останется отчина или живот, ино жене его кормится, до своего живота, только не пойдет замужь, ино ей нет.»[19] В данном случае, видимо, нельзя говорить об ограничении брачной свободы женщины, а только о сохранении имущества семьи для членов данной семьи и вперую очередь детей.
Законодательство Московского государства также расширяет гражданскую дееспособность женщин по сравнению с Русской Правдой. По Уложению же 1649 года женщина нисколько не ограничивается в своей дееспособности.[20] Уложение давало возможность женщине управлять имуществом семьи после смерти мужа. Женский пол не являлся ограничением дееспособности по русскому законодательству данного периода, но подчинение отцу или мужу в семейных отношениях отражается на имущественных правах.
Значительно расширяется к XIV-XV вв. возможность женщин владеть недвижимым имуществом и в-первую очередь землей. Примеры довольно большого недвижимого имущества находящегося во владении у женщин на различном основании мы видим, когда рассматриваем завещания знатных женщин этого времени. Таким примером можно считать завещание княгини Елены. Елена сочла нужным благословить своего господина великого князя Василия Васильевича селом Коломенским; внука своего Василия Ярославича она благословила селами: Омутским, Всходским, в Луже, селами Юрьевским, Деготским, Осеневским, Аврамовским, Михалковом, Миседским, Сосновским, в стану Московском, селом Туловским; сноху свою, жену князя Семена, Василису благословила селом Ногатинским с лугами и городскими Ногатинцами, в Луже, селом Бубольским и Бенитским; другую сноху, жену князя Василия, Ульяну, благословила селами Битяговом и Домодедовом, а в стану (Московском), селом Танинским да селом Богоровским; внука князя Василия Ярославича благословила также селом Ковезинским в Радонеже; внуку княгиню Марью Ивановну, селом Вороновским в Дмитрове, в городе (Москве), местом под двором старым на Подоле, где были владычни хоромы, а по смерти княгини Марьи село и место князю Василию Ярославичу.[21] Необходимо учитывать, что княгини обладали также имуществом, которым они не могли распоряжаться, но могли пользовать пожизненно и получать с них прибыль. При рациональном хозяйствование богатые женщины могли приобрести большое количество земли самостоятельно и распоряжаться в дальнейшем их судьбой как они посчитают нужным, с учетом своих личных склонностей. Примером такой рачительной хозяйки можно считать Софью Витовтовну, мать Василия Темного, по указанию историков только 6 из 52 указанных в ее завещании волостей не были прикупами[22]. Такое большое количество прикупов может свидетельствовать о больших денежных средствах, которые могли находится у женщин. Конечно, не все женщины могли обладать такими средствами, это как правило были женщины из привилегированных классов, знатного происхождения, но мы видим не только княгинь, обладающих большой земельной собственностью. Например, недвижимая собственность Марфы Борецкой, которая не относилась к княжескому роду была получена путем двух удачных замужеств и осуществления выгодных финансовых операций была очень значительной даже в сравнении с имуществом других зажиточных семей Новгорода. Собственницы земли как княжеского рода, так и менее знатных родов могли полностью распоряжаться своим имуществом, в приведенном выше завещании, например, княгиня большую часть оставила своему любимому внуку, то есть так как посчитала нужным сама.
При проведении сравнительного анализа положения вдов на Руси и в западноевропейских государств, можно отметить, что русские женщины отличались большим объемом имущественных прав. Западноевропейские женщины были зависимы от мужчин, как во время брака так и становясь вдовами, например «у германцев, - по утверждению В.И. Сергеевича – в силу зависимости мужа от жены, всем имуществом жены распоряжался, конечно, муж.»[23]
При оценке имущественной дееспособности вдов следует остановиться в первую очередь на том, что проанализировав законодательные акты IX-XV вв. нельзя сомневаться в существовании имущества, принадлежащего исключительно женщине, так как в обратном случае целый ряд статей действовавших в то время законодательных актов, практически утрачивают всякий смысл (например, статья об ответственности за воровство мужа у жены.) Собственное имущество у женщин, особенно привилегированного слоя формировалось из целого ряда источников и могло быть весьма значительным, так как именно эти женщины, в отличие от дочерей смердов могли наследовать уже в соответствии с Русской Правдой. В последствии, в соответствии, например с Псковской Судной Грамотой предоставляются практически равные с мужчинами права при наследовании для всех категорий женщин. Более поздние периоды, такие как Псковская Судная Грамота предоставляют женщинам более обширные имущественные права чем Русская Правда, но проанализировав все статьи русского законодательства, можно сделать вывод о том, что такие широкие имущественный права имеют свои корни в законах языческого периода, которые не дошли до нас, но на которые имеются указания в договоре князя Олега с Византией 911 г. К окончанию рассматриваемого мной периода женщины приобретают широкие имущественные права как в сфере приобретения денежных средств, путем занятия ремеслами, ростовщичеством и получением прибыли путем использования имущества, особенно недвижимости, так и в сфере использования и распоряжения этого имущества путем различных гражданско-правовых сделок, в том числе составления завещаний. Следует отметить, что широкая имущественная правоспособность коснулась не всех женщин. В первую очередь широкими имущественными правами обладали женщины принадлежавшие к привилегированным сословиям, что объясняется их большей социальной раскрепощенностью, их «родовитостью», которая поднимала их в глазах общества и допускала в такие важные сферы жизнедеятельности, как, например, землевладение и, что наверное играло самое большое значение, огромными денежными средствами которыми они могли получить в качестве наследства, приданного, подарка и используя которые могли приобретать любое имущество. Также более широкими имущественными правами обладали, видимо жительницы Пскова и Новгорода, так как это области, которые практически не пострадали от татаро-монгольского нашествия и где не наблюдалось никаких внешних факторов тормозящих развитие имущественной правоспособности женщин. В этих местностях, женщины обладали более широкими социальными и даже некоторыми политическими правами и видимо это повлияло на создание законодательных актов, которые в большей степени, чем общерусские акты способствовали развитию женских имущественных прав. Между Новгородскими купчими XIV-XV века находится одна о покупке мужем земли у жены, ее дочери и зятя[24].
Основным из источников имущественных прав вдов является наследование. В России женщины выступали в качестве наследниц, но наличие наследников мужского рода ограничивает наследование женщин. В. Никольский рассматривая основные проблемы наследования и останавливаясь на наследовании женщин указывает: «В силу родовых понятий в течении всей нашей истории к наследованию призываются
"прежде всего и исключительно только родственники мужского пола; только эти лица и признаются поэтому наследниками, ибо только они поддерживают род и защищают общество, отечество. Женщина, назначенная по своей природе к выходу посредством замужества в чужой род, при наследниках мужского пола не наследуют, ибо она не поддерживает того рода, из которого происходить, а заводить свою особую семью в чужом роде, равно как и неспособна защищать свое отечество». В соответствии с Русской Правдой после смерти родителей дочь оставалась в их доме «ожели останется сестра въ дому» и получала содержание «кормъ».
Анализируя имущественное положение вдов на Руси в период IX до XV века следует отметить, что вдовы выступали в качестве субъектов имущественных отношений, находящихся под защитой церкви и общества. Однако это не мешало вдовам обеспечивать самостоятельное осуществление и защиту не только своих прав, но и прав своих малолетних детей.