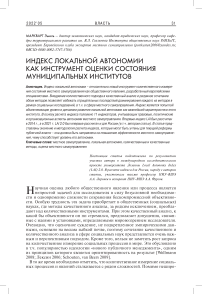Индекс локальной автономии как инструмент оценки состояния муниципальных институтов
Автор: Маркварт Эмиль
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политические процессы и практики
Статья в выпуске: 5, 2022 года.
Бесплатный доступ
Индекс локальной автономии - относительно новый инструмент количественного измерения состояния местного самоуправления как общественного явления, разработанный европейскими специалистами. Внедрение количественного подхода в качественный анализ и разумное сочетание обоих методов позволяет избежать отрицательных последствий доминирования каждого из методов в рамках социальных исследований, в т.ч. в сфере местного самоуправления. Индекс является попыткой объективизации уровня и динамики развития локальной автономии как важнейшей характеристики этого института. В основу расчета индекса положено 11 индикаторов, учитывающих правовые, политические и организационные аспекты автономии местного самоуправления. Впервые индекс LAI был рассчитан в 2014 г., а в 2021 г. LAI 2.0 был впервые рассчитан и для России (в т.ч. автором статьи). В статье представлены значение и методология расчета индекса, которые могут быть учтены для текущей реформы публичной власти - она должна быть направлена на повышение эффективности местного самоуправления, чему способствует уровень его автономии.
Местное самоуправление, локальная автономия, количественные и качественные методы, оценка местного самоуправления
Короткий адрес: https://sciup.org/170195960
IDR: 170195960 | DOI: 10.31171/vlast.v30i5.9229
Текст научной статьи Индекс локальной автономии как инструмент оценки состояния муниципальных институтов
Н аучная оценка любого общественного явления или процесса является непростой задачей для исследователя в силу безусловной необходимости и одновременно сложности сохранения бескомпромиссной объективности. Особую трудность эта задача приобретает в общественных (социальных) науках, где методы качественного анализа, за редким исключением, преобладают над количественными инструментами. При этом качественный анализ, к какой бы объективности он ни стремился, предполагает допущения, связанные с идеями и установками, определяемыми мировоззрением исследователя. Очевидно, что оценочное суждение, не подкрепленное эмпирическими данными, основано на весьма зыбкой почве, поэтому сочетание качественного и количественного анализа в сфере социальных наук представляется очень важным и перспективным подходом. Кроме того, нельзя не заметить рост запроса на количественное измерение социальных процессов в мире. Это обусловлено в т.ч. популярностью идеологии «нового публичного менеджмента», одним из принципов которого является ориентированность на результат [Wollmann 2008; Лексин 2006; Schouten, van Beers 2009].
В то же время необходимо отметить, что количественное измерение социальных процессов и явлений сталкивается с рядом сложностей. Помимо неширо- кой базы доступных к измерению индикаторов, сюда можно отнести и недостатки учета и расчета количественных показателей, и возможность интерпретаций как самих показателей, так и объективности выводов, сделанных на их основе. Как известно, количественные данные далеко не всегда позволяют определить качественное состояние изучаемого предмета. Так, например, наличие большой сети некоммерческих организаций (НКО) в государстве может свидетельствовать о развитом негосударственном секторе и, как следствие, о наличии активного гражданского общества. Однако какое число НКО на душу населения необходимо, чтобы считать негосударственный сектор развитым? И может ли простой подсчет числа НКО, без анализа содержания их работы, отдачи от осуществляемой ими деятельности, лечь в основу вывода об эффективности функционирования негосударственного сектора в целом? Ведь в одном случае за большим числом может скрываться государственное принуждение к созданию некоммерческих структур (в т.ч. посредством установления различных запретов и условий деятельности), а в другом – все НКО создаются гражданами по собственной инициативе, т.е. отражают состояние гражданского общества и являются более устойчивыми. Приведенный пример призван подчеркнуть необходимость разумного сочетания количественных и качественных методов в рамках общественных наук – именно оно, по нашему мнению, способно гарантировать бóльшую глубину и объективность исследований и выводов.
В этом же контексте представляется вполне целесообразным искусственное внедрение количественного подхода в качественный анализ, которое чаще всего происходит в процессе разработки так называемых индексов общественных явлений, определяемых за счет агрегирования отдельных индикаторов. Такие индикаторы могут сочетать в себе черты качественных и количественных характеристик индексируемого предмета. Так, например, при расчете показателя политического участия граждан в государстве в рамках формирования ежегодного индекса демократии ( Democracy Index 1), разрабатываемого подразделением The Economist Group , учитываются как количественные показатели (например, число граждан, участвующих в голосовании на выборах и референдумах в отдельном государстве), так и качественные, определяемые средневзвешенным оценочным мнением экспертов (например, уровень участия национальных и религиозных меньшинств в политическом процессе)2. Показателям обоих типов в рамках методики подсчета при этом присваивается количественное значение. Среднее значение от суммы индикаторов образует итоговое значение показателя индексируемого явления.
Несмотря на существующие (в т.ч. объективные) ограничения при использовании количественных методов, нельзя не отметить их растущую популярность – соответствующие расчеты в последние десятилетия ведут как научно-аналитические подразделения крупных компаний и НКО, так и научные и образовательные организации по всему миру. Среди наиболее известных индексов – Freedom House Index 3, Corruption Perception Index ( Transparency International )4,
Governance and Institutional Quality ( World Bank )1, Democracy Barometer [Bühlmann, Merkel, Wessels 2007] и др. Относительно недавно к ним добавился еще один индекс, призванный характеризовать состояние института местного самоуправления, – так называемый индекс локальной автономии.
Индекс локальной автономии ( Local Autonomy Index , LAI ) был впервые представлен Еврокомиссией в 2015 г. как результат экспертного анализа данных о состоянии и развитии местного самоуправления за 1990–2014 гг. в 39 странах, включая прежде всего страны Евросоюза [Ladner, Keuffer, Bastianen 2022] (хотя сама идея индекса, который позволял бы количественно характеризовать состояние локальной демократии, возникла раньше). В разработке базовой идеи оценки состояния локальной автономии особую роль играли труды швейцарских экспертов в области государственного и муниципального управления и сформировавшаяся в стране практика, вызвавшие значительный интерес в европейских странах [Fichter 2010]2. Следует отметить и немалый вклад ученых ряда других европейских стран в обоснование необходимости и потенциала индекса, а также в формирование основных подходов к его разработке. Разработчики в отчете, представленном Еврокомиссии в 2015 г., отметили, что индекс тесно увязан с индексом региональной автономии ( RAI ), который был сформирован ранее, уже в 2010 г. В контексте сказанного выше логичным представляется то, что инициаторами и координаторами разработки индекса LAI выступили ученые из Швейцарии [Ladner, Keuffer 2018; Ladner, Keuffer, Baldersheim 2016; Fleurke, Willemse 2006]. В этой работе также активно участвовали эксперты из Норвегии, Германии, Бельгии. Сам процесс оценки состояния локальной автономии, проводимый (проведенный) в большом числе стран, координируется университетом Лозанны (Швейцария), который, с одной стороны, осуществляет взаимодействие с Еврокомиссией и Советом Европы, а с другой – с экспертами (либо исследовательскими коллективами) в различных странах. Индекс получил известность и признание в подавляющем большинстве европейских стран. Это проявляется не только в активном участии ведущих экспертов и профильных объединений в его измерении в своих странах, но и в его использовании в научных и прикладных исследованиях, посвященных развитию института местного самоуправления. Ряд публикаций последних лет позволяет прийти к выводу, что индекс все более активно применяется в международных и сравнительно-страновых исследованиях [Kommunale Handlungsfähigkeit… 2020], а в перспективе может быть (и, наверняка, будет) задействован для обоснования тех или иных рекомендаций в области политики в сфере местного самоуправления. Отчасти поэтому в рамках второго этапа расчета индекса локальной автономии ( LAI 2.0), который проходил в 2020–2021 гг., география исследования была заметно расширена: в него были включены страны – члены ОЭСР и ряд других стран, включая Россию. Всего в LAI 2.0 приняли участие 57 стран, в т.ч. все 27 стран – членов ЕС, 44 страны – члена Совета Европы (кроме Азербайджана, Монако и Сан-Марино), 36 стран – членов ОЭСР (кроме Новой Зеландии), а также Аргентина, Беларусь, Косово и ЮАР [Ladner, Keuffer, Bastianen 2022: 4]. При этом для стран, участвовавших в проекте ранее, индекс рассчитывался за период с 2014 по 2020–2021 гг., в то время как для новых участников расчет должен был осуществляться за период с 1990 г.
Индекс использует термин «локальная автономия» в трактовке А. Лидстрема, которая включает 4 основных кумулятивных критерия1: четкую территориальную основу, достаточную компетенцию (круг задач), наличие выборных органов местного самоуправления и самостоятельности в решении своих задач. Исходя из этого подхода, в основу расчета индекса положены 11 индикаторов, призванных определить степень автономии местного самоуправления. Как отмечается в пояснении к результатам проекта на сайте Еврокомиссии, локальная автономия является важной характеристикой хорошо налаженного механизма административного управления2. Укрепление локальной автономии свидетельствует о децентрализации и передаче компетенции на низовой уровень публичной власти в государстве. Однако Еврокомиссия осознает, что измерение и сравнение уровня локальной автономии является крайне непростой задачей. Среди причин этого – как наличие различных подходов к сущности и содержанию локальной автономии в теории местного самоуправления, так и сложность унификации подходов при оценке опыта разных юрисдикций3.
Ни экспертное сообщество, ни Еврокомиссия не ставят под сомнение то обстоятельство, что локальная автономия является обязательным элементом, сущностной основой реального и эффективного местного самоуправления. В соответствии с пониманием местного самоуправления, заложенным в Европейской хартии местного самоуправления, локальная автономия понимается как реальная «возможность органов местного самоуправления самостоятельно формировать набор местных услуг и соответствующее им муниципальное налогообложение» [Goldsmith 1995: 229; Ladner, Keuffer 2018: 211]. Содержание локальной автономии, однако, дополняется правовыми, политическими и организационными аспектами, добавляемыми в методику расчета соответствующего индекса [Ladner, Keuffer 2018: 212]. Важно отметить, что при разработке методики ее авторы опирались не только на научные разработки, но и на содержание Европейской хартии местного самоуправления, являющейся квинтэссенцией европейских ценностей в сфере местной автономии и самоуправления [Ladner, Keuffer, Baldersheim 2016: 325]. Методика предлагает измерять и оценивать локальную автономию, как отмечено выше, на основании 11 индикаторов [Ladner, Keuffer, Baldersheim 2016: 326-327], для каждого из которых вводится собственная шкала оценки (от 0 до 3 или от 0 до 4). Внутри некоторых индикаторов существует дифференциация по отдельным показателям от 0 до 1 (см. далее).
-
1. Институциональная глубина (ID) : степень, в которой муниципальные органы автономны в установлении круга выполняемых задач (предоставляемых услуг). Индикатор в значительной мере зависит от существующего в той или иной стране принципа регулирования компетенции местного самоуправления – так называемого принципа условно универсальной или специальной правоспособности [Маркварт, Петухов, Иванова 2019: 139-150]. Ранжирование в рамках
-
2. Спектр местной политики (PS) : диапазон функций (задач), осуществляемых местным самоуправлением. В рамках индикатора выделены и оцениваются типичные местные функции, за которые муниципальные органы традиционно (как минимум, в европейских странах) несут ответственность (начальное образование, социальная помощь и обслуживание, первичное медицинское обслуживание, землепользование, общественный транспорт, жилье, полиция). Оценка «0» здесь означает «совсем не отвечают», «0,5» – «частично ответственны» и «1» – «полностью ответственны». Медианное значение индикатора может колебаться от 0 до 4. Таким образом, индикатор отражает широту компетенции муниципалитетов при решении традиционных задач местного самоуправления.
-
3. Эффективное политическое усмотрение (EPD) : степень, в которой местные органы власти имеют реальное влияние на осуществляемые функции (то есть, могут определять содержательное наполнение и стандарты предоставления услуг). «Усмотрение» в данном случае отражает степень свободы муниципалитета в решении задач, отнесенных к его компетенции. Ранжирование в рамках индикатора проводится от показателя «усмотрение отсутствует» (0), «некоторое усмотрение» (0,5) до «реальное самостоятельное принятие решений» (1) по каждому из 12 направлений, совпадающих с направлениями, выделяемыми в рамках спектра политики. Медианное значение индикатора также может колебаться от 0 до 4.
-
4. Степень фискальной автономии (FA) отражает, в какой мере местные органы власти могут самостоятельно устанавливать источники доходов местных бюджетов. Она обычно включает право устанавливать местные налоги и неналоговые доходные источники; базу и ставку по местным налогам, установленным государством; иметь твердо установленную долю в государственных («регулирующих») налогах. Индикатор может колебаться от 0 («муниципальные органы определяют базу налогообложения, могут вводить небольшие налоги и сборы») до 4 («определяют базу и ставку более одного основного налога – НДФЛ, НДС, налог на имущество, налог на прибыль организации и т.д.»).
-
5. Система финансовых трансфертов (FTS) : доля не связанных финансовых трансфертов (дотаций) в общей сумме трансфертов, получаемых органами местного самоуправления. Индикатор здесь может составлять от 0 («связанные трансферты являются доминирующими; несвязанные составляют менее 40% общего числа трансферов») до 3 («почти все трансферты – от 80% до 100% являются несвязанными»).
-
6. Финансовая самостоятельность (FSR) отражает долю доходов местного бюджета, полученных из собственных (местных) источников (налоги, сборы, доходы от предоставления услуг). Индикатор ранжируется от 0 («собственные источники приносят менее 10% от всех доходов бюджета») до 3 («собственные источники составляют более 50% доходов»).
-
7. Автономия муниципальных заимствований (BA) : степень свободы, с которой местные органы вправе осуществлять заимствования. Диапазон здесь варьирует от 0 («местные органы власти не могут брать кредиты») до 3 («местные органы власти могут осуществлять заимствования без ограничений со стороны государственных властей»).
-
8. Организационная автономия (OA) понимается как степень свободы муниципалитета в определении организационных основ и параметров избирательной
-
9. Правовая (судебная) защита (LP) : наличие конституционных или иных юридических средств для обеспечения местной автономии. Индикатор варьирует от 0 («нет средств правовой защиты для защиты местной автономии») до 3 («имеются средства правовой защиты, предусмотренные конституционными положениями или законодательными правилами, возможно обращение в суды за защитой права на местное самоуправление»).
-
10. Административный надзор (AS) призван показать степень и глубину административного надзора за деятельностью муниципальных институтов. Показатель варьирует от 0 («наличие административного надзора за законностью и целесообразностью муниципальных решений») до 3 («очень ограниченный административный надзор, вышестоящие власти не могут отменить решение муниципальных органов»). Иначе говоря, нулевое значение индикатора означает, что государство осуществляет не только правовой надзор (надзор за законностью), но и так называемый надзор за эффективностью (принимаемых решений, расходованием средств и т.п.) деятельности органов местного самоуправления по вопросам, отнесенным к их компетенции (профессиональный или специальный надзор) [Маркварт 2002]. Максимальное значение индикатора означает, что государство в сфере собственных задач муниципалитета осуществляет лишь правовой надзор в рамках, жестко установленных законодательством.
-
11. Доступ к государственной политике (CRA) : степень, в которой местные власти привлекаются к политическим консультациям, влияют на формирование политики органов власти на более высоких уровнях. Минимальный показатель 0 означает «органы власти более высокого уровня не консультируются с местными органами власти, и нет формальных механизмов представительства их интересов»; максимальный – 3 означает: «с местными властями либо консультируются, либо они имеют доступ к принятию решений на вышестоящем уровне через формализованное представительство».
2.0, над которым работало большое число экспертов из упомянутых 57 стран (включая автора данной статьи, который в составе небольшой экспертной группы рассчитывал индекс локальной автономии для России), опубликован Еврокомиссией в начале 2022 г. Отчет содержит теоретическое обоснование, методологию исследования, пояснения и расчет индекса локальной автономии за период до с 1990 по 2020 г. для 57 стран. Поскольку целью данной статьи не являются описание расчета и анализ индекса локальной автономии непосредственно для России, отметим лишь, что Россия заняла предпоследнее место в агрегированном рэнкинге 57 стран (ей уступает только Молдова), а общее среднее значение российского индекса (около 14 баллов) составляет менее половины среднего показателя государств Европейского союза1 и сопоставим со значением индекса в таких странах, как Молдова, Беларусь и Израиль [Ladner, Keuffer, Bastianen 2022: 78]. Динамика российского индекса также довольно красноречиво свидетельствует о существенном снижении локальной автономии в стране за прошедшие годы.
индекса проводится от 0 («местные органы власти могут выполнять только установленные сверху задачи» до 3 («местные власти вправе брать на себя любые новые задачи (компетенции), не закрепленные за другими уровнями власти»).
системы. Индикатор измеряется от 0 («руководители муниципалитетов назначаются вышестоящими органами, местные власти не могут определять основные элементы своей политической системы – избирательные округа, число мест, избирательную систему») до 4 («руководители избираются гражданами или советом, муниципалитеты могут определять некоторые элементы избирательной системы, а органы местного самоуправления нанимать собственный персонал, фиксировать зарплату сотрудникам, учреждать юридические лица и муниципальные предприятия»).
Следует отметить, что первые восемь индикаторов суммируются под общей категорией «саморегулирование» ( self-rule ), а последние три складываются в общее значение для категории «интерактивное регулирование» ( interactive rule ), которая характеризует взаимодействие между структурами местного самоуправления и органами власти вышестоящего уровня.
Расчет индекса локальной автономии, впервые проведенный в 2015 г., позволил собрать большой массив данных для количественного и качественного анализа динамики развития муниципальных институтов. Полученные итоги свидетельствовали об увеличении уровня локальной автономии в период с 1990 по 2015 г., в особенности в странах Центральной и Восточной Европы. Странами с наиболее высоким уровнем локальной автономии были признаны Швейцария, Скандинавские государства, Германия и Польша1 . Итоговый отчет проекта LAI
Подводя некоторые итоги, необходимо отметить, что индекс локальной автономии, даже при формальном подходе к определению значений индикаторов, достаточно гибок и позволяет выявить основные лакуны и слабые места, ведущие к снижению автономии муниципальных институтов. При этом большинство индикаторов имеют объективное отражение в количественных показателях, и их подсчет позволяет минимизировать влияние личного мнения эксперта на содержание анализируемых процессов. С другой стороны, и это особенно показательно для России, формальный подход, особенно при оценке нормативных установлений, определяющих функционирование местного самоуправления, не всегда позволяет учесть существующую практику. Не всегда учитываютс индексом и особенности национальных систем права и практики правоприменения, которые могут существенно расходиться и давать совершенно иную картину, искажая представление об анализируемом аспекте локальной автономии. В целом же индекс локальной автономии – важный и удобный инструмент оценки состояния и тенденций развития местного самоуправления (в т.ч. в сравнительно-страновом аспекте), позволяющий в определенной степени «объективировать» саму оценку. В то же время наличие существенных расхождений между формальными показателями и реальным положением дел требует отражения и учета при расчете индекса. Представляется, что на настоящем этапе это можно осуществлять посредством пояснений к тексту (пояснительной записки), что и было сделано при расчете индекса для России.
Как отмечалось в начале данной статьи, разумное сочетание количественных и качественных методов в рамках социальных наук оправданно, поскольку способствует устранению перекосов и отрицательных последствий доминирования каждой группы. Внедрение количественного подхода в качественный анализ общественных явлений и процессов позволяет трезво взглянуть на их функционирование и динамику развития. Для сегодняшнего положения дел в муниципальной сфере это безусловно важно: за громкими заявлениями об эволюции местного самоуправления (в России теперь уже в контексте «реализации положений конституционной реформы по созданию единой публичной власти», призванной, по заявлениям апологетов этой реформы, посредством централизации повысить эффективность решения местных вопросов) скры- вается не всегда приятная для инициаторов реформы правда: локальная автономия, признаваемая в развитых государствах важнейшим элементом эффективного управления на местах, в последние годы (особенно начиная с 2014 г.) жестко ограничивается, а в официальной риторике демократия, автономия и самоуправление нередко объявляются причиной неэффективности публичного управления. На практике же наблюдается обратное: эффективность местного самоуправления в России снижается параллельно со снижением уровня локальной автономии. Так будет ли какой-либо положительный результат от теперь уже и формального демонтажа автономии муниципальных институтов? Индекс локальной автономии, как лакмусовая бумажка происходящих процессов, не может дать прямого ответа на этот вопрос, но, возможно, заставит задуматься над ним.
Список литературы Индекс локальной автономии как инструмент оценки состояния муниципальных институтов
- Лексин В.Н. 2006. Административная реформа и оценка качества государственного управления. - Труды ИСА РАН. Т. 22. С. 113-132.
- Маркварт Э. 2002. Государственный надзор за местным самоуправлением в ФРГ. — Актуальные вопросы территориальной организации местного самоуправления: сборник материалов (под общ. ред. Э. Маркварта). М.: Юрист. С. 103121.
- Маркварт Э., Петухов Р.В., Иванова К.А. 2019. Институциональные основы местного самоуправления: учебное пособие. М.: Проспект. 344 c.
- Bühlmann M., Merkel W., Wessels B. 2007. The Quality of Democracy: Democracy Barometer for Established Democracies. Working Paper No. 10. National Centre of Competence in Research (NCCR) Challenges to Democracy in the 21st Century.
- Fichter Ju. 2010. Politische Gemeinden und lokale Autonomie in der Schweiz. -Cahier de l'IDHEAP. № 251. Доступ: https://serval.unil.ch/resource/serval:BIB_ FBF7DD0BE546.P001/REF (проверено 14.09.2022).
- Fleurke F., Willemse R. 2006. Measuring Local Autonomy: A Decision-Making Approach. - Local Government Studies. Vol. 32. Is. 1. P. 71-87.
- Goldsmith M. 1995. Autonomy and City Limits. - Theories of Urban Politics (ed. by D. Judge, G. Stocker, H. Wollmann). London: Sage. P. 228-252.
- Kommunale Handlungsfähigkeit im europäischen Vergleich Autonomie, Aufgaben und Reformen. 2020. Bonn. 74 s. Доступ: https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroef-fentlichungen/sonderveroeffentlichungen/2020/handlungsfaehigkeit-dl.pdf?__blob=publicationFile&v=3 (проверено 14.09.2022).
- Ladner A., Keuffer N. 2018. Creating an Index of Local Autonomy - Theoretical, Conceptual, and Empirical Issues. - Regional & Federal Studies. Vol. 31. Is. 2. P. 209234.
- Ladner A., Keuffer N., Baldersheim H. 2016. Measuring Local Autonomy in 39 Countries (1990-2014). - Regional & Federal Studies. Vol. 26. Is. 3. P. 321-357.
- Ladner A., Keuffer N., Bastianen A. 2022. Self-rule Index for Local Authorities in the EU, Council of Europe and OECD Countries, 1990- 2020. European Commission. URL: https://serval.unil.ch/resource/serval:BIB_C7F7E939908A.P001/REF.pdf (accessed 14.09.2022).
- Schouten J., van Beers W. 2009. Result-oriented Management. Zaltbommel, Netherlands: Thema.
- Wollmann H. 2008. Reformen in Kommunalpolitik und verwaltung. England, Schweden, Frankreich und Deutschland im Vergleich. - Wüstenrot Stiftung. Wiesbaden. 328 s.