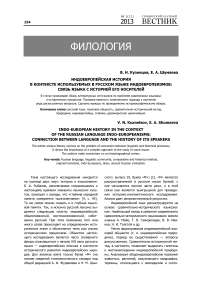Индоевропейская история в контексте используемых в русском языке индоевропеизмов: связь языка с историей его носителей
Автор: Кузнецов Валерий Николаевич, Шумаева Екатерина Андреевна
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 2 (12), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье произведен обзор литературных источников по проблеме взаимосвязи языковых и исторических процессов. Показана важность комплексного подхода к изучению ряда дискуссионных вопросов. Сделаны выводы по проведенному историографическому обзору.
Русский язык, языковая общность, сравнительно-исторический метод, прародина, индоевропейцы, славяне, древнерусская цивилизация
Короткий адрес: https://sciup.org/14113757
IDR: 14113757
Текст научной статьи Индоевропейская история в контексте используемых в русском языке индоевропеизмов: связь языка с историей его носителей
Тема настоящего исследования находится на границе двух наук: истории и языкознания. Б. А. Рыбаков, рассматривая сохранившиеся к настоящему времени элементы языческих культов, приходит к выводу, что «глубина народной памяти измеряется тысячелетиями» [9, с. 95]. То же самое можно сказать и о глубине языковой памяти. Так, в исконно русской лексике выделяют следующие пласты: индоевропейский, общеславянский, восточнославянский, собственно русский. При этом появление того или иного слова происходит на определенном историческом этапе и объясняется теми или иными историческими процессами. Объектом настоящего исследования является часть словарного фонда сложившегося к началу XXI века русского языка — индоевропейская лексика в контексте исторического развития индоевропейских народов. Для анализа взята только буква «М» (на основе сведений этимологического словаря под общей редакцией А. Ф. Журавлева и Н. М. Шан- ского: выпуск 10, буква «М») [1]. «М» является распространенной в русском языке буквой, с нее начинаются многие части речи, и в этой связи она является выигрышной для проведения историко-лингвистического исследования. Анализ дает репрезентативный результат.
Индоевропейский язык реконструируется на основе сравнительно-исторического языкознания. Наибольший вклад в развитие современного сравнительно-исторического языкознания внесли ученые А. Мейе, Т. В. Гамкрелидзе, В. В. Иванов, Н. И. Толстой и др.
Место формирования индоевропейской языковой общности (т. е. индоевропейская прародина), период ее существования — вопросы дискуссионные. Сравнительно-исторический метод, в частности, позволяет выдвигать гипотезы о местонахождении индоевропейской прародины. Анализируя общеиндоевропейские названия животных, растений, окружающего ландшафта, термины, относящиеся к земледелию и ското- водству, Т. В. Гамкрелидзе и В. В. Иванов путем исключения ряда районов как возможной прародины намечают географическую область, в пределах которой она могла располагаться. Это район современной Восточной Анатолии (Западная Азия), откуда и началась миграция индоевропейских племен, приведшая к распределению их на обширной территории Евразии и самостоятельному развитию диалектов [2, с. 8, 11]. О. Н. Трубачев, напротив, определяет место концентрации индоевропейских племен в центральноевропейских районах [11, с. 8]. Б. В. Горнунг находит прародину индоевропейцев в севернобалканских и нижнедунайских районах, при этом решительно отвергает все другие варианты (среднеевропейский, южнорусский, азиатский) [4, с. 10—11]. С ним солидарен Б. А. Рыбаков [9].
Большое значение приобретает проблема определения времени распада индоевропейской общности и выделения из нее славянской. В данном вопросе правильной представляется позиция Б. В. Горнунга, который отмечает длительность процесса как образования (уходит корнями в V тыс. до н. э.), так и распада индоевропейской языковой общности. С III тыс. до н. э. начинается обособление отдельных языковых групп от индоевропейской языковой общности, причем данный процесс затянулся на 2000— 2500 тыс. лет [4, с. 9—10]. «Распад индоевропейского языка был многоактным процессом, растянувшимся на тысячелетия», — пишет В. В. Седов в работе «Этногенез ранних славян» [10]. Именно это обстоятельство и предопределяет размытость, а подчас и невозможность точной датировки.
Индоевропейскую проблему нельзя рассматривать, используя только узколингвистический подход. Индоевропейцы — это не только и не столько язык, сколько культура, находящая отражение в нем [12, с. 12].
Слов, имеющих индоевропейское происхождение и нашедших свое отражение в этимологическом словаре А. Ф. Журавлева и Н. М. Шанского (буква «М»), — 34. Они перечислены в таблице 1. При этом исследователями справедливо отмечается, что часть словарного фонда (или какие-то отдельные его элементы) могут восходить даже к предшествующей индоевропейскому единству эпохе — отстоять от нее на тысячелетия. Понятие «индоевропейские слова» несколько условно, так как его содержание может включать и доисторические заимствования [1, с. 160—161; 8, с. 382]. Но установить все это методами современной науки затруднительно.
Таблица 1
Индоевропейский пласт собственно русской лексики
|
мак |
мед |
мех |
молния |
мотать |
|
мазать |
межа |
мзда |
молодой |
мох |
|
малый |
мезга |
мир |
молоко |
мрак |
|
мама |
мена |
мнить |
молоть |
муха |
|
марать |
мера |
мозг |
моль |
мыть |
|
мать |
мережа |
молить |
мор |
мять |
|
мгла |
мереть |
молиться |
море |
Попытаемся только на основе сохранившихся в русском языке индоевропеизмов, начинающихся на букву «М» и нашедших отражение в анализируемом этимологическом словаре, обрисовать картину жизни индоевропейских народов.
Среди индоевропеизмов значительна группа слов, обозначающих степень родства («мама», «мать»), возраст («малый», «молодой»), физиологические процессы («мереть» в значении «умирать», «мор»). Неслучайно у славянских племен богиней смерти станет Мара (Мор). А. Мейе отмечает, что большинство прилагательных, имеющих индоевропейское происхождение, не дают возможности почерпнуть информацию относительно индоевропейской культуры и представлены антонимическими парами «молодой — старый», «новый — древний» и т. п. [8, с. 408]. Действительно, если мы еще раз обратимся к таблице 1, то увидим, что в ней нашли отражение только два прилагательных — «малый» и «молодой».
Индоевропейцы были знакомы как с потребляющим, так и с производящим хозяйством. Индоевропейцы занимались бортничеством, рыболовством, охотой, о чем свидетельствуют слова «мед» и «мережа». Значение слова «мед» первоначально, собственно, «мед», но его склонность к брожению привела к появлению вторичного значения: «напиток из меда». Более того, произошло сближение двух индоевропейских корней: *medhu- («мед») и *mad- (бурлить, переливаться) [13, с. 119]. Оригинальной чертой сакральной жизни индоевропейцев станет обожествление дурманящего напитка, который на индоевропейской прародине изготавливался как раз из меда [7, с. 4]. К слову, мифологизированы будут и наркотические свойства мака, известного как масличная культура. Вероятно, слово «мак» является древним доиндоевро-пейским или средиземноморским словом. Археологические раскопки показывают, что мак выращивали древние шумеры, однако в Египте и Палестине его не знали [13, с. 26—27]. Слово
«мережа» (общеиндоевропейский корень *mer-означает «вить, плести») в разные языки вошло под различными, но родственными значениями. Первое — «рыболовная сеть, невод» (древнерусский, болгарский, сербо-хорватский, литовский языки). Второе — «сеть, петля, силок» (старопольский, греческий языки).
Производящее хозяйство — это именно то, что Б. А. Рыбаков называет «земледельческо-скотоводческим комплексом», возникновение которого привело в том числе к изменению мировоззрения [9, с. 153]. Переход к производящему хозяйству у индоевропейцев произошел сравнительно рано, о чем говорят данные языкознания и что Т. В. Гамкрелидзе и В. В. Иванов кладут в систему критериев для обозначения индоевропейской прародины. В частности, они указывают, что в IV тыс. до н. э. (т. е. в период формирования и существования общеиндоевропейского языка) в Центральной Европе скотоводство (как и земледелие) находилось в зачаточном состоянии, а значит, индоевропейская прародина здесь локализоваться не могла [2].
Индоевропейское происхождение имеет слово «молоть» (*mela-): др.-рус. «молоти», польск. «mleć», чешск. «mlíti», словацк. «mliеť», болг. «меля», лит. «malù», «maliaũ», др.-в.-нем. «mаlаn», др.-ирл. «melim», лат. «molō» и т. д. — со значениями «молоть, размельчать, растирать» [13, с. 291]. Колосья индоевропейцы молотили с помощью зернотерок и ступок с пестиками, таким образом измельчая их до крупы [7, с. 4]. В то же время очевидно, что слово «молоть» связывалось не только с зерном, но и использовалось для обозначения процесса вообще. Однако именно на его базе уже на общеславянском этапе возникнут слова «мука», «мельница». Неслучайно, и это можно объяснить только прогрессом в области земледелия, на данном этапе развития индоевропейских народов изображения символов плодородия становятся доминирующими и вытесняют с прежней позиции охотничьи символы [9, с. 161].
В хозяйственную жизнь индоевропейцев прочно входило не только земледелие, но и животноводство, причем оно разделялось на молочное и мясное. Так, слово «молоко» относится к индоевропеизмам. Многочисленность же индоевропейских названий «молока», «молочных продуктов», по мнению Т. В. Гамкрелидзе и В. В. Иванова, как раз и отражает развитость молочного хозяйства у индоевропейцев [3, с. 869]. Что касается слова «мясо»: оно считается общеславянским, но происходит от древней индоевропейской основы *memso и имеет соответствия в других индоевропейских языках [13, с. 310]. В. И. Дегтярев устанавливает значение этой индоевропейской праформы, во-первых, как «разделанная туша или часть туши животного» и, во-вторых, как «тело человека» [6, с. 104]. Таким образом, и мясо, и молоко являлись значимыми продуктами в рационе питания индоевропейцев. К этому же выводу приходит и А. Мейе, исходя из обилия терминов, обозначающих животных, и определенности вкладываемых в них значений (в противовес названиям растений) [8, с. 399]. Связь с животноводством имеет и слово «мех», так как первоначальное значение слова — «животное, овца» [13, с. 182].
Появляются и совершенствуются ремесла — с ремеслами в той или иной степени связаны следующие индоевропейские глаголы (табл. 1): «мазать», «марать», «мотать», «мыть», «мять», а также существительное «мезга» («мягкий молодой слой древесины»).
Отношения обмена между людьми являются типичными для любого архаического общества, и древние индоевропейцы в этом отношении не исключение. Ряд индоевропейских слов позволяет судить о развитости обменных процессов и даже знакомстве с торговлей. Таковы слова «мера», «мена», «мзда». «Мена» — древнее индоевропейское слово, обозначающее процесс обмена в самом широком смысле, восходит к основе *mei-(n) «менять, обменивать». Производным от этого же корня является, к примеру, имя древнеиндийской Митры — божества договора [3, с. 754]. «Мера» — в основном во всех индоевропейских языках имеет значение «мера, мерить». Слово, конечно, имеет широкую смысловую нагрузку. Так, например, к индоевропейскому слову *me- «мерить» восходит общеславянское *mes «месяц» (луна издревле служила мерой времени у разных народов). Интересен греческий вариант трактовки слова: «совет, предложение», «принимаю решение», что имеет непосредственное отношение к обмену товарами. «Мзда» восходит к индоевропейскому *mizdho- «плата» [13, с. 149, 163, 188].
Исключительное значение имела религиозная жизнь. Уже говорилось о сакрализации свойств мака, меда, о связи слова «мор» с божеством смерти. Сюда же можно отнести индоевропейские представления о «мыши», которая соотносилась с божеством «Нижнего мира», вследствие чего связывалась с погребальными обрядами [3, с. 531]. Теперь обратим внимание на слова «молить», «молиться», «молния». Их тесная взаимосвязь подчеркивается общим происхождением от индоевропейской основы
*meld(h): с одной стороны, она означает «молиться, совершая жертву, возносить молитвенные слова богам», с другой стороны — «молния, молот бога грома» [13, с. 279—282]. Зная об обожествлении индоевропейцами природных явлений, это не представляется удивительным, так как гроза была из тех явлений, которые вызывали наибольшее впечатление. Б. А. Рыбаков называет «культ природы» одной из первых стадий языческих религиозных воззрений, куда входит поклонение «злым и добрым духам природы» [9, с. 8, 94]. Неслучайно один из высших богов у большинства индоевропейских народов непременно будет являться персонифицированной грозой [7, с. 7]. Также неслучайно и то, что изначальная принадлежность праславянского *modliti, которое позже будет являться ритуальным термином христианского культа, восходит к религиозной языческой лексике, связанной с древними обрядами жертвоприношения. В связи с этим неправомерно отделение «молить» в значении «просить» и «молить» в значении «бить скотину» [13, с. 279—280]. В то же время касающиеся религии термины (как раз таки за исключением природных явлений и небесных светил) расходятся в различных индоевропейских языках весьма существенно, что может быть объяснено наличием у каждого индоевропейского народа собственных культов [8, с. 400—401].
Большая группа индоевропеизмов имеет отношение к окружающему индоевропейцев миру: «море» (первоначально — «стоячая вода, болото»), «мох», «мак» «муха», «моль» («маленькое насекомое»), «мышь» (табл. 1). Здесь уместно вспомнить о замечании А. Мейе относительно неопределенности значений индоевропейских терминов, обозначающих растения [8, с. 399]. К примеру, индоевропейская основа *m(e)us- («мох») с производными образует группу слов с кругом значений «мох», «болотное растение», «плесень» [3, с. 663]. Однако даже эти значения могли быть вторичными и произойти в результате семантического перехода «влага» — «плесень, мох». Таким образом, слово «мох», вполне возможно, первоначально ассоциировалось с дождем, пасмурностью, туманом, изморосью [5, с. 37].
Среди индоевропеизмов нет слова «медведь» (является общеславянским). Вследствие как культовой важности, так и опасности для охотника первоначальная индоевропейская лексема со значением «медведь» табуировалась и впоследствии была заменена описательным наименованием по склонности животного к сладкому («мед ведающий» или «мед едящий»).
Б. А. Рыбаков указывает на «глубокую древность медвежьего культа». Исконное название этого животного, по-видимому, было близко к современному немецкому Bär. Свидетельством этому может служить распространенное в русском языке слово «берлога», которое может быть расшифровано как «логово бера» [9, с. 102].
Для индоевропейцев было характерно как отсутствие письменности (возможно, потому, что хозяйство не требовало еще особого учета, так как не стало достаточно развитым и разветвленным), так и единой государственной власти. При наличии последней не произошли бы миграции такого широкого масштаба из первоначальных областей расселения, что в конечном итоге привело к самостоятельному развитию индоевропейских диалектов [2].
Таким образом, очевидной представляется связь языка с историей его носителей. Исторические процессы и изменения в жизни общества так или иначе находят свое отражение в языке. На основе анализа только одной буквы мы имеем возможность представить основные черты жизни индоевропейских народов. В настоящем исследовании рассмотрен один из пластов исконно русской лексики. Доля индоевропеизмов в общем словарном фонде исконно русской лексики составляет всего 8,6 % (рис. 1), но тем не менее это те слова, которые в настоящее время широко используются в речи.

Рис. 1. Пласты исконно русской лексики
-
1. Бонгард-Левин Г. М., Грантовский Э. А. От Скифии до Индии. Древние арии: мифы и история. 2-е изд., доп. и испр. М. : Мысль, 1983.
-
2. Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В. Древнейшая Передняя Азия и индоевропейская проблема. Временные и ареальные характеристики общеиндоевропейского языка по лингвистическим и культурно-историческим данным // Вестн. древней истории. 1980. № 3. С. 3—27.
-
3. Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В. Индоевропейский язык и индоевропейцы : в 2 т. Тбилиси : Изд-во Тбилисского ун-та, 1984.
-
4. Горнунг Б. В. Из предыстории образования общеславянского языкового единства. М. : Изд-во Академии наук СССР, 1963.
-
5. Горячева Т. В. К семантике и этимологии славянских метеорологических и астрономических терминов // Этимология. 1990. С. 36—44.
-
6. Дегтярев В. И. Слав. *MESO — *MESA // Этимология. 1990. С. 99—108.
-
7. Кузнецов В. Н. Индоевропейские народы в древности и раннем средневековье. Ульяновск : УлГПУ им. И. Н. Ульянова, 2001.
-
8. Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М.—Л. : Гос. социальноэкономическое изд-во, 1938.
-
9. Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. М. : Наука, 1994.
-
10. Седов В. В. Этногенез ранних славян // Вестн. РАН. 2003. Т. 73, № 7. С. 594—605 [Электронный ресурс]. URL: http://slavya.ru /trad/history/genezis /sed.htm.
-
11. Трубачев О. Н. Этногенез и культура древнейших славян: Лингвистические исследования. М. : Наука, 2003.
-
12. Трубачев О. Н. Этногенез славян и индоевропейская проблема // Этимология. 1990. С. 12—27.
-
13. Этимологический словарь русского языка. Вып. 10: М / под общ. ред. А. Ф. Журавлева, Н. М. Шанского. М. : Изд-во МГУ, 2007.
Список литературы Индоевропейская история в контексте используемых в русском языке индоевропеизмов: связь языка с историей его носителей
- Бонгард-Левин Г М, Грантовский Э.А. От Скифии до Индии. Древние арии: мифы и история. 2-е изд., доп. и испр. М.: Мысль, 1983
- Гамкрелидзе Т В., Иванов В.В. Древнейшая Передняя Азия и индоевропейская проблема. Временные и ареальные характеристики общеиндоевропейского языка по лингвистическим и культурно-историческим данным//Вестн. древней истории. 1980. № 3. С. 3-27.
- Гамкрелидзе Т В., Иванов В.В. Индоевропейский язык и индоевропейцы: в 2 т. Тбилиси: Изд-во Тбилисского ун-та, 1984.
- Горнунг Б.В. Из предыстории образования общеславянского языкового единства. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1963.
- Горячева Т.В. К семантике и этимологии славянских метеорологических и астрономических терминов//Этимология. 1990. С. 36-44.
- Дегтярев В.И. Слав. *MESO -*MESA//Этимология. 1990. С. 99-108.
- Кузнецов В.Н. Индоевропейские народы в древности и раннем средневековье. Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2001.
- Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М.-Л.: Гос. социально -экономическое изд-во, 1938.
- Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М.: Наука, 1994.
- Седов В.В. Этногенез ранних славян//Вестн. РАН. 2003.Т. 73, № 7. С. 594-605 [Электронный ресурс]. URL: http://slavya.ru/trad/history/genezis/sed.htm.
- Трубачев О.Н. Этногенез и культура древнейших славян: Лингвистические исследования. М.: Наука, 2003.
- Трубачев О.Н. Этногенез славян и индоевропейская проблема//Этимология. 1990. С. 12-27.
- Этимологический словарь русского языка. Вып. 10: М/под общ. ред. А.Ф. Журавлева, Н.М. Шанского. М.: Изд-во МГУ, 2007.