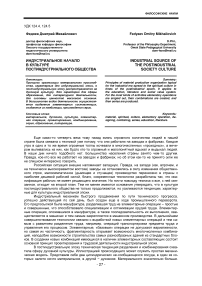Индустриальное начало в культуре постиндустриального общества
Автор: Федяев Дмитрий Михайлович
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 6, 2012 года.
Бесплатный доступ
Принципы организации материального производства, характерные для индустриальной эпохи, в постиндустриальную эпоху распространяются на духовную культуру. Это характерно для сферы образования, для литературной деятельности, для системы ценностей массового сознания. В большинстве видов деятельности осуществляется выделение элементарных составляющих, создаются их комбинации, производятся серии.
Материальное, духовное, культура, элементарная операция, проектирование, комбинирование, серия, образование, литература
Короткий адрес: https://sciup.org/14934474
IDR: 14934474 | УДК: 124.4,
Текст научной статьи Индустриальное начало в культуре постиндустриального общества
Еще каких-то четверть века тому назад жизнь огромного количества людей в нашей стране была связана с техникой уже потому, что они работали на заводах и фабриках. Каждое утро в одно и то же время огромные толпы исчезали в многочисленных «проходных», а вечером выливались из них, как будто кто-то огромный и малопонятный вдыхал и выдыхал людей. В наши дни ничего подобного нет. Большинство населения страны занято чем-то другим. Правда, кое-кто все же работает на заводах и фабриках, но об этом как-то не принято (или же не слишком интересно) говорить.
Российская ситуация внешне напоминает западную. Правда, на западе (как, впрочем, и на технически высокоразвитом востоке) заводы не остановились в силу изменения общественного строя, малосимпатичное (дымящее и стучащее) производство перенесено в страны с наиболее дешевой рабочей силой, благо, современные технологии разработаны так, что квалификация рабочих не имеет решающего значения. Но почти повсюду техника и все, с ней связанное, отходит на второй план. Тем не менее имеются основания утверждать, что в культуре постиндустриального общества не только продолжаются, но усиливаются тенденции, характерные для культуры индустриальной эпохи.
Индустриальный механизм быстрого продвижения по пути технического прогресса, успешно действующий по сей день, был создан еще в ходе промышленного переворота. Его предпосылкой была мануфактура, разделившая труд на элементарные операции – простые и совершенные, что способствовало специализации и оптимизации орудий труда. Элементарные операции, сложившиеся в мануфактуре, а также последовательность их выполнения, овеществляются в машинах и тем самым закрепляются в машинном производстве. В дальнейшем совершенствование технологии связано с выработкой новых элементарных операций и тем самым с развитием разделения труда, например, операций транспортировки предмета труда и управления его процессом. Элементарные, «базовые» операции не допускают вариативности, но самая их частичность, фрагментарность открывает возможность многочисленных комбинаций, наподобие возможности строительства самых разнообразных зданий из стандартных блоков. В создании новых комбинаций имеющихся в наличии элементарных составляющих состоит основной принцип проектирования и трудовой деятельности индустриальной эпохи.
В постиндустриальную эпоху техническая тенденция разделения и комбинирования охватила сферу духовной культуры. Иллюстрацией происходящего может служить простая механическая модель. Представим себе два цилиндрических не-сообщающихся сосуда, в один из которых налито нечто материальное, в другой - духовное. Материального значительно больше.
В нижней части сосуды соединены трубкой, которая перекрыта не слишком прочной заслонкой. Она-то и мешает жидкости свободно перетекать из одного сосуда в другой. Теперь попытаемся сдавить «материальную» жидкость при помощи поршня, как если бы мы захотели облить кого-нибудь водой из велосипедного насоса. Тогда заслонку прорвет, и материальное хлынет в духовное. Нечто подобное произошло при переходе от индустриализма к постиндустриализму. Например, два культурных феномена - образование и литературу.
В русле идеологии Болонского процесса, бурно протекающего в последние годы в нашей стране, качество образования отождествляется с компетентностью, под которой понимается «интегральная характеристика, определяющая способность специалиста решать профессиональные проблемы и типичные профессиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях профессиональной деятельности… Компетентность всегда проявляется в деятельности. Нельзя «увидеть» непроявленную компетентность» [1, c. 9]. В другой работе читаем, что «компетентность – результат образования, выражающийся в овладении учащимся определенным набором (меню) способов деятельности по отношению к определенному предмету воздействия» [2, c. 7]. В последней дефиниции компетентности бросается в глаза одно характерное слово – меню. Из контекста ясно, что авторы имеют в виду не то меню, которое бывает в ресторане, а то, которое имеется в компьютере. Согласно словарю «Яндекс», меню есть список предлагаемых пользователю вариантов услуг, действий, команд, режимов работы, ответов и т.п., выводимых на экран монитора, для осуществления выбора необходимого варианта и дальнейшего его исполнения средствами вычислительной системы. Допустим, что другие авторы не употребляют этого термина, а в данном случае его употребление вызвано увлеченностью авторов компьютером. Но едва ли «оговорка» случайна: речь идет об определенном наборе способов деятельности, причем, способы уже разработаны, имеются в наличии в отшлифованном и стандартизированном виде, а компетентный субъект деятельности комбинирует их применительно к конкретной ситуации, то есть действует в совершенно индустриальном стиле.
Далее читаем, что «базовой образовательной технологией, поддерживающей компетент-ностный подход в образовании, является метод проектов, который «позволяет наименее ресурсозатратным (курсив мой - Д.Ф.) способом создать... условия деятельности, максимально приближенные к реальным» [3, c. 11]. Правда, у него имеется один недостаток: «Метод проектов столь же плохо приспособлен для формирования систематических знаний основ наук, сколь классический урок плохо приспособлен для формирования ключевых компетентностей учащихся» [4, c. 16]. Это по-человечески понятно. В пылу проектирования не до основ. Представим себе проектирование собственного дома. Дошли мы, например, до определения толщины балок перекрытий. Хватит ли у нас моральной стойкости, чтобы овладеть основами «сопромата», после чего рассчитать толщину этих балок? Едва ли. В лучшем случае мы найдем в строительной литературе аналогичный проект, в худшем - посмотрим, как сделано у соседей. Подобным же образом мы будем решать и другие задачи, то есть проектирование сведется все к тому же складыванию готовых кубиков, но нового кубика нам не создать. Для этого нужны те самые основы, которые формируются традиционными методами.
Создание «проектов» посредством комбинирования характерно и для литературной деятельности. Дело не в том, что современные писатели менее добросовестны, чем «классики». За время своего существования мировая литература накопила такой запас образов, сюжетов, вариантов композиции, творческих приемов, что сегодня создать нечто совсем уж новое и своеобразное вряд ли возможно: души людей и человеческие отношения меняются несравненно медленнее, чем вторая природа. Распоряжаясь накопленным наследием, литература пошла по тому же пути, который много раньше прошла техника, но, разумеется, без широкомасштабных социальных потрясений, которые были характерны для промышленного переворота в материальном производстве. Вычленение элементов литературного наследия происходит легко и естественно. Здесь не надо ничего ломать. Человек, читающий, знакомый с историей литературы, знает, что, например, такой-то образ умиляет читателя, такой - возмущает, такой поворот сюжета захватывает, такой - резко меняет первоначальное впечатление и др. Таким образом, в распоряжении писателя имеется более чем достаточный запас образов, ситуаций, сюжетов, «поворотов темы», гарантирующих строго определенное, предусматриваемое авторами эмоциональное воздействие на читателя, неоднократно проверенное, что живо напоминает набор операций трудовой технически оснащенной деятельности, воздействие которых на предмет труда предопределено. Остается «только» создать из них новую своеобразную комбинацию.
Оказывается, правда, что свободному комбинированию мешает реальность как таковая и реализм как жанр. Попробуйте дать волю фантазии в жанре реализма, и немедленно найдутся критики, которые скажут, что ничего такого не было или не может быть, что произведение нежизненно, неправдоподобно и пр. Реалистическое произведение всегда уязвимо.
Первым достойным ответом критикам стало появление жанра научной фантастики: кто может сказать, что может или не может быть где-нибудь на «Альфа-Центавре», или «в далеком созвездии Тау-Кита»? Но все же и он не дает полной свободы: всегда найдутся ученые зануды, которые скажут, что, например, быстрее скорости света летать нельзя или что-нибудь в том же духе, ограничивающее свободный полет творческой мысли. А если, например, в путь к созвездию Тау-Кита отправляются советские люди, то они и вести себя должны по-советски, а не так, как будет угодно автору.
Наконец, радикальный ответ критикам был дан жанром «фэнтези»: в Среднеземье или ином подобном месте может происходить все что угодно, а потому ничто не мешает свободно комбинировать операции в их литературной форме. И вот, открыв «Властелина колец» Р.Р. Толкиена, читатель обнаруживает богатейший набор: скитания короля, который в финале займет престол; безнадежный бой, участников которого спасет неожиданная помощь; народ, живущий просто и бесхитростно; победа добра над злом, самопожертвование; благородный мудрец; человек, некогда мудрый, но отбросивший мораль; рефлексирующий герой; простодушный герой, не понимающий своего героизма и т.д. Все это уже было, причем неоднократно, но, тем не менее, новая комбинация дает именно «Властелина колец», а не какое-то другое произведение. Жанры триллера, детектива, женского любовного романа не столь свободны, но и в них осуществляются все те же многочисленные комбинации раз найденных и многократно проверенных элементов.
В мире индустриальной техники комбинирование раз найденных операций - не единственный путь развития. Он дополняется расширением сферы действия самих операций, главным образом за счет доработки инструментария. Допустим резец, предназначенный для токарного станка, прекрасно режет металл. Нельзя ли применить его для обработки пластических материалов? Каких изменений он потребует? Это направление деятельности предполагает эксперименты: а как поведет себя тот или иной инструмент в новых условиях, на нетрадиционном материале? Его аналог тоже представлен в литературном творчестве, в частности в произведениях Бориса Акунина, на страницах которых мы встречаем персонажей, живо напоминающих старых знакомых из литературной классики, но попадающих в нетипичные для классики ситуации, можем наблюдать, как они с ними «справляются».
Наконец, одной из характерных особенностей крупного машинного производства является его относительная негибкость. Оно наиболее эффективно при выпуске крупных серий однотипных изделий. Чтобы перейти на производство нового изделия, нужно основательно перестраивать систему машин. Ручной труд такой проблемы не знал. Поэтому нередко организаторы производства идут по пути создания модификаций базового изделия, которое пользуется спросом. Затраты оказываются существенно ниже, чем при переходе к принципиально иной продукции. Литература активно осваивает эту методику: если «Гарри Поттер» пользуется спросом, то появления «Тани Гроттер» долго ждать не придется.
Экспансия индустриализма не ограничивается отдельными сферами деятельности. Он проникает в систему ценностей и, таким образом, становится фактом массового сознания. В частности, элементы индустриализма обнаруживаются в оценке произведений искусства. Ж. Бодрийяр пишет, что «до XIX века копия оригинального произведения обладала самостоятельной ценностью, изготовление копий представляло вполне законную практику... Раньше художники обычно работали с помощниками, подмастерьями... Акт рисования и, следовательно, подпись не несли в себе это мифологическое требование подлинности - моральный императив, которому доверилось современное искусство» [5, c. 129-130]. Объяснение сводится к тому, что мир воспринимался как произведение первохудожника - Творца, а собственно художник считался копиистом. Современный же художник творит от себя самого, соответственно его произведение - оригинал. Он создает одно произведение за другим, создает серию. «Поскольку же конечным термином этой серии служит уже не мир, требующий представления, а всегда отсутствующий субъект, становится крайне необходимым обозначать этого субъекта как такового, указывая одновременно на произведение как объект этого субъекта: в этом-то и заключается функция подписи, именно из этой необходимости она извлекает свою современную привилегию». [6, c. 131-132].
А вдруг одна из картин - подделка? «Неподлинность одного из элементов серии становится катастрофичной именно потому, что серия стала конститутивным качеством современного произведения». (Представьте, что в системе машин, которые в совокупности обеспечивают выпуск какой-либо продукции должного качества, один из «настоящих» станков заменен поддельным, который, как писали И. Ильф и Е Петров, очень похож на настоящий, но не работает. Никакой продукции не получится. Примерно так воспринимается поддельное произведение).
«Если один из терминов рушится, то разрывается весь порядок. Один поддельный сулаж, быть может, стоит другого Сулажа, но он бросает подозрение на всех Сулажей» [7, c. 132-133].
Теперь попытаемся суммировать сказанное «в общем виде». Согласно Д.В. Пивоварову, культура есть идеалообразующая сторона человеческой жизни [8, с. 5-7]. Соответственно в основании любой локальной (то есть ограниченной пространственно-временными рамками) культуры обнаруживается некоторая система идеалов. Но, если речь идет о системе, правомерен вопрос о том, каковы ее элементы и системные качества. По версии Е.А. Филимоновой, элементами являются идеалы, складывающиеся в различных видах деятельности, а системными качествами - их инвариантное содержание, которое фиксируется (или, скорее, «снимается») в характеристиках «культурного человека», то есть все то, что восходит к «пандейе». Здесь под «культурностью» понимается адекватность тому или иному типу культуры, а не нечто неопределенно «высокое» [9, с. 16]. Если принять ее, вывод можно сформулировать следующим образом: идеал индустриализма, порожденный производственно-технической сферой, бывший в индустриальную эпоху элементом культуры, в эпоху постиндустриальную стал ее системным качеством. По крайней мере, во многих сколько-нибудь «востребованных» видах деятельности осуществляется выделение элементарных составляющих, создаются их комбинации, производятся серии.
Ссылки:
-
1. Компетентностный подход в педагогическом образовании / под ред. В.А. Козырева и Н.Ф. Радионовой. СПб., 2004.
-
2. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Метод проектов – технология компетентностно-ориентированного образования / под ред. Е.Я. Когана. Самара, 2006.
-
3. Там же.
-
4. Там же.
-
5. Бодрийяр Ж. К критике политической экономии знака. М., 2007.
-
6. Там же.
-
7. Там же.
-
8. См.: Пивоваров Д.В. Синтетическая парадигма в философии: избр. статьи. Екатеринбург, 2011.
-
9. См.: Филимонова Е.А. Динамика культуры: от традиции к нерефлексированному прогрессу // Филология, искусствоведение и культурология в ХХI веке. Новосибирск, 2012.
Список литературы Индустриальное начало в культуре постиндустриального общества
- Компетентностный подход в педагогическом образовании/под ред. В.А. Козырева и Н.Ф. Радионовой. СПб., 2004.
- Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Метод проектов -технология компетентностно-ориентированного образования/под ред. Е.Я. Когана. Самара, 2006.
- Бодрийяр Ж. К критике политической экономии знака. М., 2007.
- Пивоваров Д.В. Синтетическая парадигма в философии: избр. статьи. Екатеринбург, 2011.
- Филимонова Е.А. Динамика культуры: от традиции к нерефлексированному прогрессу//Филология, искусствоведение и культурология в ХХ! веке. Новосибирск, 2012.