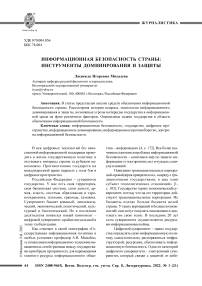Информационная безопасность страны: инструменты доминирования и защиты
Бесплатный доступ
В статье представлен анализ средств обеспечения информационной безопасности страны. Рассмотрена история вопроса, технологии информационного доминирования и защиты, возможные угрозы интересам государства в информационной среде на фоне различных факторов. Определены задачи государства в области обеспечения информационной безопасности.
Информационная безопасность, государство, цифровое пространство, информационное доминирование, информационное противоборство, доктрина информационной безопасности
Короткий адрес: https://sciup.org/149143178
IDR: 149143178 | УДК: 070:004.056
Текст научной статьи Информационная безопасность страны: инструменты доминирования и защиты
В век цифровых технологий без качественной информационной поддержки проводить в жизнь государственную политику и отстаивать интересы страны за рубежом невозможно. Противостояние государств на международной арене перешло с поля боя в цифровое пространство.
Российская Федерация – суверенное государство. У нас есть своя территория, своя банковская система, свои деньги, армия, власть, системы образования и здравоохранения, полиция, границы, таможня. Суверенитет бывает военный, дипломатический, экономический, политический, культурный и биологический. Но в последние десятилетия появился новый компонент – цифровой суверенитет, крайне актуальный в эпоху глобализации.
Как отмечает в своей монографии «Государственная информационная политика в особых условиях» профессор А.В. Манойло, «с появлением информационно-телекоммуникационных сетей границы между государствами приобрели прозрачность для перемещения главного ресурса информационного обще- ства – информации» [4, с. 172]. Все более значимым становится проблема информационной безопасности – комплекса мер по защите информации от посторонних сил и чуждых социуму влияний.
Появление транснациональных корпораций-провайдеров превратило их, «наряду с традиционными государствами, в еще один субъект геополитических отношений» [1, с. 105]. Государство теряет экономический суверенитет, потому что на его территории действуют транснациональные корпорации. Их бюджеты подчас больше бюджета целой страны. У таких корпораций и больше возможностей: они могут покупать чиновников и диктовать им свою волю. В последние 20 лет слом суверенитета осуществляется ресурсами информационные войны.
Цифровой суверенитет – право государства определять свою информационную политику самостоятельно, распоряжаться инфраструктурой, ресурсами, обеспечивать информационную безопасность. Одна из категорий цифрового суверенитета – электронный суверенитет, который связан с защитой от кибе- ратак. К нему относятся хакеры, DDoS-атаки, вирусы, спам. У большинства стран мира, к сожалению, с защитой электронного суверенитета большие проблемы.
Число успешных кибератак и результативность информационного давления показывают пугающую эффективность. По мнению президента Всероссийской полицейской ассоциации Юрия Жданова, ущерб мировой экономике от киберпреступности к 2030 г. достигнет 90 трлн долларов. По его словам, организация DDoS-атаки стоит в среднем 9 тыс. руб. в сутки, разработка нового вредоносного программного обеспечения – 20 тыс. руб., фишинговая кампания – 10 тыс. рублей. «На данный момент около 1,5 млн чел. совершили хотя бы одно преступное действие в Интернете», резюмирует Жданов [2]. Информационное противостояние будет продолжаться и обостряться, потому что идет борьба за будущий миропорядок. Его формирование пытаются подчинить себе, прежде всего, США, желающие сохранить и расширить свою политическую гегемонию, а без информационного превосходства гегемония установлена быть не может.
Так, профессор А.В. Манойло отмечает, что в современном информационном обществе артикулируются новые геополитические приоритеты в информационной деятельности государственных структур власти. Каждый из факторов информационного противоборства пытается выстроить в противовес противнику свою доминирующую коммуникацию. «Информационное доминирование, – по замечанию ученого, – может быть определено как способность назначить и поддерживать такой темп проведения операции, который превосходит любой возможный темп противника, позволяя доминировать во все время ее проведения, оставаясь непредсказуемым, и действовать, опережая противника в его ответных акциях» [4, с. 279 ].
Информационное доминирование непосредственно связано с информационно-телекоммуникационной экспансией. Это тоже один из терминов, который объясняет концепцию информационного противоборства, выдвинутую А.В. Манойло. Он формулирует это как «бесконфликтное проникновение в сферу социальных и духовных отношений общества»
[4, с. 271]. По мнению А.В. Манойло, «происходит вытеснение положений национальной идеологии и национальной системы ценностей и замещение их собственными ценностями и идеологическими установками» [4, с. 278].
До 2000-х гг. в России практически не существовало ясной государственной позиции по этой проблеме, что, собственно, и привело к поражению СССР в Холодной войне. В результате к концу 80-х гг. советская молодежь готова была платить по 200 руб. (263 долл.) за джинсы Montana , в то время как в Америке стоимость одной пары была всего 30 долларов. Этот американский бестселлер, с фирменным орлом на металлической нашивке, в короткое время стал пропуском в мир богатых и модных. Очередь в фирменную секцию «Монтана» в универмаге «Московский» в начале 90-х была настолько велика, что огибала здание по периметру. Этот момент хорошо показан в фильме режиссера Сергея Ашкенази «Криминальный талант» 1989 года. В конце первой серии дочь главного героя, следователя Сергея Рябинина, выпрашивает у отца 200 руб. на модные джинсы. «Да, было ведь когда-то время, о шмотках думать не приходилось. Жила себе простой детской жизнью, забот не знала... А теперь, если джинсов нормальных импортных нет, в школе ведь засмеют. Ну или смотреть будут небрежно, без уважения», – так она объясняет отцу необходимость дорогой покупки. В джинсах у советской школьницы вся суть жизни.
Информационным оружием наших противников стало российское телевидение. Российские фильмы и программы заменили на иностранные, лучшее время для просмотра ТВ отдали под дешевые «мыльные оперы». В начале 90-х, сразу после американского сериала «Санта-Барбара», который смотрели всей страной в течение 10 лет, на канале РТР начиналась передача в стиле «магазин на диване». Она была в эфире ровно 15 минут. В ней рекламировался европейский бренд «lеMonti». Под этой маркой продавали недорогую, качественную одежду и обувь. «LeMonti» предлагал довольно выгодные условия покупки – доставка в любой уголок страны и оплата наложенным платежом. Одеваться от «LeMonti» было престижно. Женщины в городах и селах России мечтали о знаменитых черных лаки- рованных лодочках и платье с романтичным названием «День и ночь».
Но основной целью информационной войны было не освоение новых торговых территорий на постсоветском пространстве. За несколько лет удалось поменять сознание людей: каждый второй представитель советской молодежи мечтал уехать на Запад. Доминирующей информационной повестке не было реального противодействия. В стране был недостаток гуманитарных кадров – тех самых, из которых рекрутируются солдаты психологической войны. Если национальная культура крепка, то народ без оружия победит любого противника. Если же культура не доминирует в инфополе, то утрачивается национальное самосознание.
Первым представителем власти, который увидел эту проблему и заявил о ней, стал Владимир Путин. 9 сентября 2000 г., спустя всего четыре месяца после прихода к власти, Президент РФ подписал Доктрину информационной безопасности страны. В ней излагались официальные взгляды на цели, задачи, принципы и основные направления обеспечения информационной безопасности нашего государства. На первое место было поставлено обеспечение информационной безопасности индивидуального, группового и общественного сознания.
Во времена биполярного мироустройства этот вопрос особенного значения не имел, так как информационные пространства были разделены. Ненужная СССР или США информация просто не попадала в соответствующее информационное поле. Так, например, в США, в июле 1990 г. была принята «Национальная политика в телекоммуникационных и информационных сетях». Она, как и идеология в СССР, была направлена на защиту своего информационного пространства различными методами. Однако после разрушения СССР ситуация поменялась, так как США взяли на себя роль страны, управляющей мировым порядком. Были разработаны доктринальные документы, в которых особое место отводилось новым информационным технологиям.
К числу первых официальных документов Пентагона по этой проблеме можно отнести директиву МО США Т3600.1 от 21 декабря 1992 г. под названием «Информацион- ная война» [6]. В этом документе впервые появляется термин «информационное противоборство». В 1993 г. в директиве Комитета начальников штабов № 30 уже были изложены основные принципы ведения информационной войны. Начиная с 1994 г. в США проводятся официальные научные конференции по информационной войне с участием видных представителей военно-политического руководства страны.
С этой целью в США уже создан Центр информационной стратегии и политики, задачей которого является изучение возможностей использования информационных технологий в военных конфликтах XXI века. В августе 1995 г. Центром разработки перспективных концепций и технологий управления Института национальных стратегических исследований Университета национальной обороны США была опубликована работа американского ученого Мартина Либики «What is information warfare?» [3]. К инструментарию войны относились не только сбор информации, всевозможные атаки на каналы связи и коммуникации, но и информационная обработка населения, целью которой являлся захват и подчинение информационного пространства. Либики выделил семь форм информационной войны:
-
1. Командно-управленческая – атака на каналы связи, когда основной целью является нарушение взаимодействия между командующими (или командными центрами) и их подчиненными.
-
2. Разведывательная – сбор значимой военной информации.
-
3. Психологическая – информационная обработка населения, их психики и сознания.
-
4. Хакерская – атака хакеров на узлы связи с целью выведения их из строя. Например, запуск вирусов.
-
5. Экономическая – под информационной блокадой понимается перекрытие каналов коммерции.
-
6. Электронная – выведение из строя электронных средств связи: компьютерных сетей, сотовых вышек, радиоузлов и т. д.
-
7. Кибервойна – в отличие от хакерской войны конечной целью является захват информации [3].
В 1996 г. в США появилась «Стратегия информационного противоборства. Новое лицо войны», где вводилось понятие стратегической информационной войны, которая трактовалась как «использование киберпространства для того, чтобы оказывать влияние на стратегические военные операции и наносить урон национальной информационной инфраструктуре» противника [8]. Эти американские проекты в 1998 г. были сведены в «Объединенную доктрину информационных операций», в которой отразились элементы наступательных и оборонительных информационных компаний, позволяющих воздействовать на все киберпространство планеты, с целью нанесения серьезного урона «для систем государственного и военного управления, экономической и финансовой системы страны-мишени» [8]. Для реализации данной Доктрины 30 апреля 1999 г. в ЦРУ создано подразделение International Public Information, официальной задачей которого стало оказание влияния на иностранных зрителей с целью получения поддержки в вопросах американской внешней политики и противодействия пропаганде, исходящей от противников США.
Примечательно, что директивой президента PDD-68 от 30 января 1999 г. Белый дом создал новую структуру под названием Международная группа общественной информации – International Public Information Group (IPI). В задачи этой организации входит профессиональное использование разведывательной информации в целях оказания влияния на эмоции, мотивы, поведение иностранных правительств, организаций и отдельных граждан. Существенную роль в создании агентства сыграло разведсообщество, прежде всего ЦРУ. Таким образом, американские специалисты считают вполне возможным достижение в обозримом будущем подавляющего преимущества в информационной борьбе, что, по их мнению, позволит успешно разрешать конфликтные ситуации в свою пользу без вооруженного вмешательства.
Реакцией Российской Федерации на данные действия и стало утверждение 9 сентября 2000 г. «Доктрины информационной безопасности РФ», которая признала влияние информационных технологий на национальные интересы страны. Однако в ее преамбуле одним из оснований действия был прописан приоритет общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров РФ, которые в большей степени защищали интересы США. А так как данный документ не позволял в полной мере выполнять свои функции, то уже через полгода на заседании Межведомственной комиссии по информационной безопасности Совбеза РФ было объявлено о начале разработки новой редакции Доктрины. Правда, на этот процесс ушло целых 16 лет.
Тем временем в США продолжили укреплять свои позиции. Этому способствовали теракты 11 сентября 2001 года. После их осуществления была создана «Национальная стратегия защиты киберпространства». В феврале 2003 года ее утвердил президент Джордж Буш-младший. В октябре 2012 года американская Стратегия была дополнена директивой PPD 20 «Политика киберопераций», первоначально носившая гриф «совершенно секретно». После этих дополнений политика США в сфере информационной войны перешла от защиты к нападению. Почти одновременно с принятием «Национальной стратегии безопасности в киберпространстве США» во Франции был создан Центр электроники и вооружений (CELAR), который по сути является продолжением американской политики в Европе, так как их объединяет НАТО.
Через подобные структуры США неоднократно брали под свой контроль информационное пространство интересующих их государств. Для этого в СМИ сначала велась активная пропаганда, через которую изменялись взгляды людей и традиционная идеология страны-мишени. Таким образом были проведены «цветные революции» в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, Киргизии, Грузии, на Украине.
Наша страна не может отказаться от своего статуса сверхдержавы. Она слишком большая и мощная, поэтому должна строить информационный суверенитет самостоятельно. Более мелким игрокам такое не под силу. Именно поэтому они вынуждены устраиваться к кому-то в кильватер.
Социальные сети – наиболее активная площадка геополитической конкуренции. Так, в октябре 2012 г. боевики движения «Талибан» совершили покушение на Малалу Юсуфзай, пакистанского подростка. Она вела блог в защиту образования девочек. Малалу чудом осталась жива, поправилась и, несмотря на угрозы, продолжила борьбу за право девочек в Пакистане ходить в школу, наравне с мальчиками. Малалу в считанные дни стала одним из самых известных подростков в мире. В 2014 г. Юсуфзай была удостоена Нобелевской премии мира, став самым молодым лауреатом. Ей на тот момент исполнилось всего 15 лет [7]. Социальные сети были в значительной степени ответственны за ее стремительный взлет к мировой известности.
Еще один знаменательный случай: 7 января 2015 г. два исламистских боевика убили 10 сотрудников и двух полицейских в парижском офисе журнала «Je suis Charlie» в отместку за карикатуры на пророка Мухаммеда. В тот вечер сотни тысяч людей прошли маршем под лозунгами «Je suis Charlie» в знак солидарности с убитыми журналистами. К следующему вечеру этот слоган появился в Твиттере 3,4 млн раз в качестве хэштега. Три дня спустя два миллиона человек собрались в Париже, и почти 4 млн присоединились к демонстрациям по всей Франции. Солидарность стала глобальной, такова сила социальных медиа. Поэтому и простые граждане, пересылая посты, оставляя лайки, действуют как агенты рекламы микроуровня и работают в поддержку политических целей и организаций.
Один из базовых принципов информационной борьбы, который А.В. Манойло выделяет в своей работе «Государственная информационная политика в особых условиях», – информационная асимметрия. Она «основывается на многозначности информационного пространства. При блокировке любого из его элементов всегда возникает возможность воспользоваться другой свободной нишей» [4, с. 277]. Например, блокировка аккаунтов в социальных сетях и интернет-площадках действующего еще президента Дональда Трампа в январе 2021 года. Благодаря информационной асимметрии происходило не только уничтожение политического лидера, но и манипуляция общественным сознанием, определяющим политику и будущее страны. По логике информационного мира, человек исчезает из реальности, если отсутствует в виртуальном пространстве. Удаление из цифрового пространства влечет за собой лишение власти и влияния над большинством людей, для которых интернет стал основным, если не единственным источником информации. И не важно кто ты: простой обыватель или президент огромной страны.
Такое самовольное ограничение или лишение свободы и прав человека вполне соответствует новому понятию «цифровой диктатуры». Определенного рода асимметрии, когда один может все, а другой ничего. Насильственное выдавливание из информационного пространства и заполнение его угодными людьми, смыслами и идеями влечет за собой тотальный контроль над современным обществом.
Чаще всего американские и западные СМИ в ходе информационного противостояния пользовались достаточно простым приемом – в подаче новостей ссылались на неназванные источники или на пост частного лица в социальной сети. Так, информационное пространство накачивалось ложными данными и вызывало социальный протест. Яркий пример такой слаженной работы был проведен на территории Польши, в Telegram-канале белорусской оппозиции «Nexta» и «Nexta Live». В десятимиллионной стране они набрали почти 2 миллиона подписчиков после объявления официальных итогов президентских выборов, согласно которым победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко.
Акции протеста в Белоруссии начались в ночь с 9 на 10 августа 2020 года. В день выборов президента Белоруссии и в первые дни после них в стране практически не работал интернет. Власти утверждали, что все дело в кибератаках из-за рубежа. Независимые эксперты называли это «государственным интернет-шатдауном». У белорусов осталось два средства утоления информационного голода: государственное телевидение и Telegram. Мессенджер продолжал работать благодаря «антицен-зурным механизмам», о включении которых сообщил Павел Дуров.
В результате в самый разгар протестов «Nexta» и «Nexta Live» стали главными источником информации, в которой жителей страны призывали выходить на улицы, не признавать итоги выборов и свергнуть Лукашенко. Обе площадки в основном пересылали со- общения друг друга. Но базовым являлся канал с приставкой Live в названии. Там появлялись самые «оперативные» видео с мест событий, большая часть которых была фальсификацией. Среди них ложь о прибытии российского спецназа для разгона демонстрантов в Минске. Также в разы преувеличивалось число протестующих на улицах. К реальным цифрам в 7 000–10 000 приписывались «нули».
В этой истории интересна судьба одного из основателей Telegram-канала «Nexta» Романа Протасевича. Для задержания оппозиционера Белоруссия пошла на беспрецедентный шаг – конфликт с Европейским союзом (ЕС) и США и принудительно посадила самолет «Ryanair» в Минске, на борту которого был Протасевич.
Сегодня, как заявляют правоохранители, Протасевич активно сотрудничает со следствием по обвинениям в «организации действий, грубо нарушающих общественный порядок», «организации массовых беспорядков» и «разжигании социальной вражды и розни». Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Но уголовное дело не мешает журналисту появляться на государственных телеканалах и пресс-конференциях, пользоваться соцсетями и спокойно гулять по улицам Минска, несмотря на домашний арест. Вполне возможно, что Протасевич, пошедший на сделку с властью, избежит сурового наказания и станет козырем в большой игре Лукашенко. Судя по последней активности оппозиционера в социальных сетях, его могут рассматривать в качестве популярного провластного блогера. В Белоруссии была одержана своя победа в информационной войне.
Для обеспечения информационного доминирования в мире США не жалеют финансовых средств. На сегодняшний день для этой цели в стране задействованы сотни государственных и негосударственных организаций. Все они находятся в подчинении у правительства США. При этом документы по обеспечению информационной безопасности, принятые правительствами США при самых разных президентах, отражают их стремление к информационному превосходству и глобальному доминированию для сохранения статуса единственной сверхдержавы, в которых лидерство США трактуется как основной спо- соб обеспечения национальной безопасности. Это уже само по себе является угрозой для национальных интересов России.
Реакцией на новую агрессивную американскую информационную политику стала разработка и утверждение новой, адекватной угрозам, «Доктрины информационной безопасности РФ», утвержденной Указом Президента РФ № 646 от 05.12.2016. Доктрина является, в первую очередь, частью общей Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, соответствует новым требованиям, угрозам и реалиям.
По сравнению с предыдущим вариантом Доктрины, новый документ имеет более четкую и последовательную структуру. Среди стратегий предусмотрено следующее:
-
– противодействие угрозам безопасности;
-
– защита от применения информационных технологий как оружия в террористических и экстремистских целях;
-
– ослабление лидирующего положения иностранных технологий и продуктов, защита национальных интересов (импортозамещение).
Ликвидация зависимости от зарубежных технологий – новый пункт в Доктрине информационной безопасности страны. Основатель факультета кибернетики и информационной безопасности МИФИ, профессор Анатолий Малюк назвал это принципиально важным моментом, так как «состояние информационной безопасности страны сегодня характеризуется недостаточным уровнем развития конкурентоспособных информационных технологий и их использования для производства продукции и оказания услуг» [5, с. 54].
Государству, чтобы чувствовать себя защищенным в электронном смысле, нужен запуск полной технологической линейки. Начиная с процессоров, микросхем и заканчивая навигационными системами. Важно иметь собственную инфраструктуру – систему, в которой соединяются интернет, телевидение и СМИ. Собственная система пропаганды и ведения информационных войн сможет существовать эффективно, если у государства будет собственная идеология, вокруг которой можно выстраивать слои защиты.
Также в документе была отдельно выделена проблема «недостаточности кадрового обеспечения в области информационной безопасности», которая за 16 лет не только не была решена, но и обострилась. Правовые аспекты обеспечения информационной безопасности тоже претерпели изменения. Новшеством является то, что теперь информационную безопасность должны обеспечивать не только органы власти, но и СМИ, операторы связи, образовательные организации, организации финансовой, банковской сфер, провайдеры. В их задачи входит обнаружение, предупреждение и ликвидация компьютерных атак и реакция на компьютерные инциденты. Для этого глава государства обязал компании создать специальные структурные подразделения или возложить обязанности на уже существующие. Согласно Указу Президента РФ № 250 от 01.05.2022 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности РФ», отвечать за информационную безопасность теперь должны персонально руководители компаний.
Информационное противодействие терроризму – тоже новый пункт в Доктрине информационной безопасности РФ 2016 года. Главной задачей государственной политики для борьбы с этой угрозой Доктрина ставит защиту собственных информационных сфер от внешних тенденций, противодействие информационным угрозам, в частности информационной войне, которая вполне способна перерасти в реальный военный конфликт.
В нашей стране многое делается для строительства информационного суверенитета. Создается единая инфраструктура: собственные поисковые системы, социальные сети, свои мессенджеры, блоги, контентные ресурсы. Появляются собственные средства мониторинга персональной среды и фильтрации трафика. Для защиты от кибервойн в 2014 г. министром обороны России Сергеем Шойгу был подписан приказ о создании войск информационных операций в составе Генштаба ВС России. Основная задача подразделения заключается в защите системы управления от несанкционированного вмешательства.
Таким образом, в информационную эпоху СМИ и социальные сети, изначальная цель которых – информировать общественность о важных событиях в жизни страны и мира, стали инструментом воздействия на сознание аудитории. И в зависимости от того, кто этим инструментом пользуется, цель эта может быть не всегда благой. Сегодня влияние СМИ и Интернета настолько велико, что часто люди сами становятся заложниками убеждений и мыслей, которые им преподносят. Поэтому информационная безопасность страны – это не только четкое исполнение пунктов Доктрины информационной безопасности РФ. Это еще и постоянный коммуникационный акт с аудиторией, рассказ о вреде, который приносят информационные войны обществу и каждому человеку.
Задача государственных институтов – создавать такие структуры и принимать такие законы, которые будут направлены на защиту информационного и цифрового суверенитета нашего государства от атак других стран. СМИ и интернет-пространство должны находиться под контролем не иностранных компаний, не государства и не частных лиц, а именно народа. Усилиями истинно гражданского общества будут проводиться частые инспекции таких СМИ, проверки их на надежность, а также участие самого гражданского общества в создании и распространении максимально правдивой информации как на федеральном, так и на местном уровнях.
Список литературы Информационная безопасность страны: инструменты доминирования и защиты
- Бухарин, В. Сравнительный анализ нормативной базы по обеспечению информационной безопасности в США и РФ / В. Бухарин // Вестник Иркутского государственного технического университета. - 2016. - Т. 20. - С. 101-108.
- В Минобороны РФ создали войска информационных операций // Сайт ИА Интерфакс. - 2017. - 22 февр. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: https://www.interfax.ru/russia/551054.
- Либики, М. Что такое информационная война? / М. Либики // Плюриверсум. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: https://pluriversum.org/opinion/strategy/chto-takoe-informatsionnaya-vojna.
- Манойло, А. Государственная информационная политика в особых условиях / А. Манойло. - М.: МИФИ, 2003. - 388 с.
- Малюк, А. Комментарии к Доктрине информационной безопасности российской федерации / А. Малюк. - М.: Горячая линия - Телеком, 2018. - 213 с.
- Микрюков, В. Ю. Безопасность жизнедеятельности / В. Ю. Микрюков. - Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 425 с.
- Самая юная нобелевская лауреатка: чем прославилась Малала Юсуфзай // Сайт компании "Chips Jornal". - 2021. - 12 июля. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: https://chips-journal. ru/reviews/malala-usufzaj.
- Стратегия информационного противоборства. Новое лицо войны // Сайт компании "Rand Corporation". - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: https://www.rand.org.