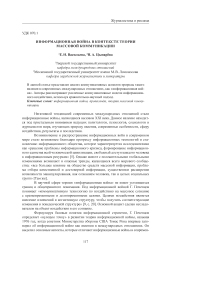Информационная война в контексте теории массовой коммуникации
Автор: Васильева Елена Николаевна, Цынарва Наталья Александровна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Журналистика и реклама
Статья в выпуске: 3, 2017 года.
Бесплатный доступ
В данной статье представлен анализ коммуникативных аспектов природы такого явления в современных международных отношениях, как «информационная война». Авторы рассматривают различные коммуникативные модели информационного воздействия, используя сравнительно-научный подход.
Информационная война, пропаганда, теория массовой коммуникации
Короткий адрес: https://sciup.org/146122060
IDR: 146122060 | УДК: 070.1
Текст научной статьи Информационная война в контексте теории массовой коммуникации
Негативной тенденцией современных международных отношений стали информационные войны, являющиеся вызовом XXI века. Данное явление находится под пристальным вниманием ведущих политологов, психологов, социологов и журналистов мира, изучающих природу явления, современные особенности, сферу воздействия, результаты и последствия.
Возникновение и распространение информационных войн в современном мире стало возможным благодаря прогрессу информационных технологий и становлению информационного общества, которое характеризуется исследователями как «решение проблемы информационного кризиса, формирование информационного единства всей человеческой цивилизации, свободный доступ каждого человека к информационным ресурсам» [5]. Однако вместе с положительными глобальными изменениями возникают и опасные тренды, касающиеся всего мирового сообщества: «все большее влияние на общество средств массовой информации, проблема отбора качественной и достоверной информации, существенное расширение возможности манипулирования, как сознанием человека, так и целых социальных групп» [Там же].
В научной сфере термин «информационная война» не имеет устоявшихся границ и общепринятого понимания. Под информационной войной Г. Почепцов понимает «коммуникативную технологию по воздействию на массовое сознание с кратковременными и долговременными целями. Целями воздействия является внесение изменений в когнитивную структуру, чтобы получить соответствующие изменения в поведенческой структуре» [9, с. 20]. Основной акцент сделан исследователем на объект воздействия и его сознание.
Формулируя базовые понятия информационной стратегии, Г. Почепцов определяет «нулевую точку» в развитии теории информационной войны, называя 1976 год, когда советник Министерства обороны США Томас Рона впервые заговорил об информационной войне как явлении в международных отношениях. Он выделил основные аспекты, которые отличают информационные войны в современ- ных условиях: существование информационной оппозиции (понятие «враг», выраженное в терминах войны), глобальные потоки информации, параллельное действие ложной и достоверной информации, вбрасывание фальшивой информации в информационное поле противника.
Другие исследователи придерживаются иных взглядов относительно времени оформления понятия. Например, М. Павлютенкова называет середину 80-х гг. ХХ века периодом теоретического осмысления информационных войн американскими военными, связанным с окончанием Холодной войны.
В целом можно сказать, что само явление информационной войны не новое и корнями уходит в глубокую историю, термин же возник совсем недавно и не имеет четких контуров. Активно употребляться он начинает с 1991 г., после того как в Ираке была проведена первая военная информационная операция «Буря в пустыне».
Базовые понятия концепции информационных войн изложены в труде С. П. Расторгуева «Информационная война. Проблемы и модели» [10]. Интересный ракурс рассмотрения данного явления представлен в монографии Г. Вирена «Современные медиа. Приемы информационных войн» [2], где анализируются приемы информационной войны в практике современных СМИ. Среди наиболее распространенных приемов автор выделяет полную дезинформацию, сокрытие существенной информации, преувеличение / преуменьшение с целью дезинформации, смещение понятий, применение пустых «позитивных» клише, ложную увязку, навешивание ярлыков, использование алогичных тезисов и др. Важно отметить, что автор рассматривает актуальные примеры информационного противоборства в Интернете, выявляя специфические особенности нового информационного пространства, определяя методы и технологии ведения информационных войн, выстраивая этапы новой технологической цепочки.
Особенности первой мировой информационной войны анализирует И. Панарин на примере реализованной в ХХ веке информационной стратегии против СССР [7]. Информационные войны в разрезе геополитических интересов ведущих акторов мировой политики И. Панарин рассматривает в своих трудах «Информационная война и геополитика» [6], «СМИ, пропаганда и информационные войны» [8].
Истоки теорий современных информационных войн следует искать в теории пропаганды, прообраза информационной войны, активно развивавшейся в ХХ веке. Одним из первых исследователей, изучавших явление пропаганды в контексте теории массовой коммуникации, был Г. Лассуэлл, рассматривавший технологии пропагандистской работы и их информационное воздействие на общество на примере пропаганды во время Первой мировой войны [11]. В процессе анализа исследователь использовал атомистический коммуникативный подход, согласно которому в рамках аудитории массовой коммуникации каждый индивид рассматривается и учитывается отдельно, вне зависимости от других личностей, в совокупности образующих массу. Масса представляет собой достаточно разрозненную и неорганизованную общность людей, которую характеризуют единые базовые (примитивные) инстинкты. С точки зрения Лассуэлла, последователя психологической теории Фрейда, данная разновидность человеческих инстинктов является неподконтрольной разуму и в ситуации военных действий быстро актуализируется и проявляется, на чем, как правило, основывается любая военная пропаганда. Согласно выявленным установкам, массовую пропаганду теоретик определял как новую движущую силу современного мира, «сливающую миллионы человеческих существ в единую «амальгамированную массу ненависти, воли и надежды» [4].
Основной функцией пропаганды Лассуэлл назвал «контроль за общественным мнением с помощью социальных символов» [1], который направлен на мобилизацию и объединение вокруг единой цели и против общего врага. Впоследствии исследователь вывел так называемую теорию «волшебной пули» [4], основанную на идее компенсации массовой коммуникацией разрушенных в обществе социальных взаимосвязей и утраченной системы ценностей, в результате чего на каждого отдельного индивида оказывается прямое воздействие, которому он не может противостоять. Важно отметить, что разные индивиды одинаково реагируют на проявленное воздействие, что стимулирует возникновение схожих примитивных инстинктов и поведенческих реакций. Данная теория предполагает, что в процессе массовой коммуникации каждый отдельный член общества получает свою долю информации, после чего срабатывает общая система стимулов, порождающая возникновение единой волны общественной реакции. Фактически, по Лассуэллу, «пропаганда – это политика и вид оружия» [2, с. 110].
На основе выведенных теоретических закономерностей в 1948 году Лассу-элл формулирует основную коммуникативную концепцию, включающую не только структурные особенности массовой коммуникации, но и ее социальные функции и основное социальное предназначение [12]. Согласно данной концепции, акт коммуникации складывается из последовательности ответов на заданные вопросы:
КТО сообщает?
ЧТО сообщает?
По какому КАНАЛУ сообщает?
КОМУ сообщает?
С каким ЭФФЕКТОМ?
Коммуникативная модель Лассуэлла предполагает определение нескольких исследовательских разделов, выделяемых на основе поставленных вопросов:
анализ управления процессом массовой коммуникации (субъект – коммуникатор);
анализ содержания передаваемой информации (сообщение);
анализ используемых средств и каналов связи (масс-медиа);
анализ аудитории медиа (коммуникант сообщения);
анализ результата («эффекта») процесса массовой коммуникации, воздействия медиа (аналог обратной связи).
Впоследствии теоретик расширил и конкретизировал предложенную модель, включив в список основных вопросов уточняющие.
КТО: С каким намерением? В какой ситуации? С какими ресурсами? Используя какую стратегию? Ориентируясь на какую аудиторию? С каким результатом?
Перечисленные вопросы существенно дополнили теорию Лассуэлла, представляющую развернутый план коммуникативного действия.
Став основной теоретической парадигмой в области массовой коммуникации, концепция Лассуэлла обозначила границы для теоретического анализа и осмысления явления пропаганды. Рассмотрение фигуры коммуникатора как главного субъекта управления процессом массовой коммуникации позволило «описать проблемное поле пропаганды» и «вычленить специфику управленческих функций для конкретных случаев» [5].
Вместе с тем описанная теория плохо проектировалась на широкий социальный контекст и не учитывала обратную реакцию массовой аудитории в процессе коммуникации. П. Лазерсфельд, единомышленник Лассуэлла, постарался заполнить данные теоретические пробелы и сформулировал иную коммуникативную модель, получившую название двухступенчатой [13]. Новая теория была признана ведущей концепцией массовой коммуникации. На основе проведенного социологического опроса накануне президентских выборов в США исследователь выявил, что массовая коммуникация не напрямую воздействует на индивида, а опосредованно. В качестве буфера выступает микрогруппа, которую обычно возглавляет лидер общественного мнения, пользующийся авторитетом в данной группе людей и обладающий определенной харизмой. Именно лидеры в первую очередь активно потребляют сообщения СМИ, а впоследствии транслируют их в массы. Фактически информацию медиа, которая доходит до отдельного индивида, можно назвать вторичной, поскольку она проходит через посредника и достигает адресата в уже сильно интерпретированном виде.
Модель коммуникации, которую сформулировал Лазерсфельд, можно представить так: «СМИ – лидер общественного мнения – индивид, подверженный влиянию лидера». Теоретик доказал, что в ходе предвыборной кампании большее воздействие на аудиторию было оказано в результате «личного влияния», а не посредством массовой коммуникации и СМИ. В дальнейшем данная модель была апробирована на ситуации в нацистской Германии и советской России.
Последующие исследователи доказали, что «следует отказаться от ошибочного подхода, исходящего из всемогущества пропаганды и заменить его гораздо более дифференцированным подходом, основывающимся на оценке возможностей некоторых видов пропаганды при определенном наборе условий» [3].
Дж. Клэппер, обобщая предыдущий опыт, пришел к выводу, что медиа являются одним из многих факторов, участвующих в формировании общественного мнения, но не единственным: «Массовая коммуникация функционирует среди и через посредство промежуточных факторов и явлений» [11]. В данном контексте важной становится проблематика обратной связи, которая актуализируется в кризисной ситуации общественной жизни, ставя под сомнение основную трактовку, формирующуюся под воздействием массовой коммуникации. Яркими примерами могут послужить война во Вьетнаме, вошедшая в историю из-за резонансного восприятия общественностью; Уотергейтское дело, известное как триумфальная победа журналистики над политикой.
Таким образом, в теории массовой коммуникации сложился некий комплексный подход к рассмотрению теории информационных войн и пропаганды: информационное воздействие может реализовываться либо через каналы коммуникации, в качестве которых выступают СМИ, либо через промежуточный буфер – лидера общественного мнения, формирующего личностную интерпретацию для микрогрупп.
В заключение можно отметить, что сегодня теория информационной войны постоянно изменяется, дополняется, уточняется и конкретизируется с учетом новых реалий и стремительно внедряющихся прогрессивных технологий, трансформирующих устоявшиеся представления об информационном противоборстве.
Список литературы Информационная война в контексте теории массовой коммуникации
- Бакулев Г. П. Теории пропаганды: классики//Ученые записки Российского государственного социального университета. 2013. Т. 2. № 3. С. 18-19.
- Вирен Г. Современные медиа. Приемы информационных войн. М.: Аспект Пресс, 2013. 126 с.
- Крысько В. Г. Секреты психологической войны (цели, задачи, методы, формы, опыт). Минск: Харвест, 1999. 448 с.
- Лассуэлл Г. Техника пропаганды в мировой войне. М.; Л.: Изд-во военной полит. лит., 1929. 200 с.
- Мозолин А. Исследования пропаганды в теориях массовой коммуникации //Исследовательский центр «Аналитик». Пропаганда. 02.10.2007. URL: http://rc-analitik.ru/file/%7B89440115-2a9a-4c24-a58c-9f7b01525937%7D. (Дата обращения: 18.08.2017.)
- Панарин И. Информационная война и геополитика. М.: Поколение, 2006. 560 с.
- Панарин И. Первая мировая информационная война. Развал СССР //DetectiveBook. URL: http://detectivebooks.ru/book/25370770/?page=1. (Дата обращения: 18.08.2017.)
- Панарин И. СМИ, пропаганда и информационные войны. М.: Поколение, 2012. //Исмтория пропаганды. URL: http://propagandahistory. ru/books/Igor-Panarin_SMI-propaganda-i-informatsionnye-voyny/. (Дата обращения: 18.08.2017.)
- Почепцов Г. Г. Информационные войны. М.: Рефл-бук, 2000. 576 с.
- Расторгуев С. П. Информационная война. Проблемы и модели. Экзистенциальная математика. М.: Гелиос АРВ, 2006. 240 с.
- Klapper J. The effects of mass communication. N.Y.: Free press, 1960.
- Lasswell H. D. World Politics and Personal Insecurity. N.Y.: Free Press, 1965.
- Lasersfeld P., Berelson B., Gaudet H. The People’s Choice. N.Y., Columbia fniv. Press, 1948.