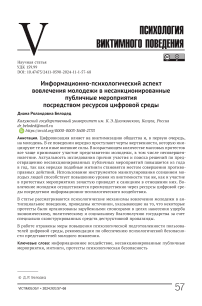Информационно-психологический аспект вовлечения молодежи в несанкционированные публичные мероприятия посредством ресурсов цифровой среды
Автор: Белодед Д.Р.
Журнал: Виктимология @victimologiy
Рубрика: Психология виктимного поведения
Статья в выпуске: 1 т.11, 2024 года.
Бесплатный доступ
Цифровизация влияет на виктимизацию общества и, в первую очередь, на молодежь. В ее поведении нередко проступают черты жертвенности, которую инициируют те или иные внешние силы. В возрастающем количестве массовых протестов все чаще принимают участие представители молодежи, в том числе несовершеннолетние. Актуальность исследования причин участия и поиска решений по предотвращению несанкционированных публичных мероприятий повышается из года в год, так как нередко подобные митинги становятся местом совершения противоправных действий. Использование инструментов манипулирования сознанием молодых людей способствует повышению уровня их виктимности так же, как и участие в протестных мероприятиях зачастую приводят к санкциям в отношении них. Вовлечение молодежи осуществляется преимущественно через ресурсы цифровой среды посредством информационно-психологического воздействия. В статье рассматриваются психологические механизмы вовлечения молодежи в антисоциальное поведение, приведены источники, указывающие на то, что некоторые протесты были организованы зарубежными спонсорами в целях нанесения ущерба экономическому, политическому и социальному благополучию государства за счет специально сконструированных средств деструктивной пропаганды. В работе отражены меры повышения психологической подготовленности пользователей цифровой среды, рекомендации по обеспечению психологической безопасности представителей молодого поколения.
Информационное воздействие, несанкционированные публичные мероприятия, митинги, протесты психологическая безопасность
Короткий адрес: https://sciup.org/14130577
IDR: 14130577 | УДК: 159.99 | DOI: 10.47475/2411-0590-2024-11-1-57-68
Текст научной статьи Информационно-психологический аспект вовлечения молодежи в несанкционированные публичные мероприятия посредством ресурсов цифровой среды
Важными задачами государства в условиях современной действительности являются повышение психологической устойчивости к манипулятивным воздействиям и предотвращение вовлечения представителей молодежи в незаконные действия. Жертвенность молодых людей, их природная виктимность, а именно готовность сражаться, страдать и гибнуть за идеалы, делает их удобной социально-психологической мишенью для специально организованного психологического воздействия. Этот процесс ускоряется и углубляется благодаря необратимому развитию цифрового общества, возникновению новых видов средств массовой информации, которые включают в себя социальные сети, каналы популярных мессенджеров, подкасты, видео- и текстовые блоги и др. Такие цифровые ресурсы становятся не только важным источником распространения информации, пространством социального взаимодействия, но и исключительно важным инструментом реализации угроз в отношении информационно-психологической безопасности отдельной личности, общества и государства.
Материалы и методы
Теоретический анализ научных публикаций и фактов, отраженных в популярных источниках, позволил установить значимое количество несанкционированных публичных мероприятий, акций протеста и митингов, в которые была вовлечена молодежь. Для изучения их характеристик проанализированы результаты современных отечественных [4; 5; 6; 14; 16; 17; 18; 21] и зарубежных [22; 23; 24; 25; 26; 27; 28] исследований факторов, причин и условий возникновения несанкционированных публичных мероприятий. В качестве основных методов исследования применялись анализ научной литературы, метод опроса, математическая обработка полученных результатов.
Результаты исследования
Глобальная популяризация интернета обличает уязвимость пользователей к деструктивному информационному воздействию и их подверженность мошенническим действиям в сети. Одной из возможных причин является низкий уровень цифровых навыков в открытой сети. Рассматривая навыки и компетенции в цифровой среде, современные исследователи, в числе которых и Г. У. Солдатова, Т. А. Нестик, Е. И. Рассказова, Е. Ю. Зотова, предлагают учитывать следующие их составляющие:
-
— умение эффективно общаться ( опыт, знания, ответственность и мотивация — важные для всех форм общения );
-
— медиа-информационные навыки ( мотивация, знания, навыки и ответственность за поиск, способность осмыслять, организовывать, хранить и оценивать достоверность цифровой информации );
-
— компетенции потребителей ( опыт, знания, ответственность и мотивация,
необходимые для решения многих повседневных задач посредством цифровых устройств и интернета );
-
— техническая компетентность ( мотивация, знания, навыки и ответственность, способствующие плодотворному и безопасному использованию технических средств и программ для решения различных проблем, в том числе компьютерных ) [18, с. 18].
При этом замечено, что формирование цифровых компетенций в настоящее время не носит целенаправленного характера для большинства пользователей. Подавляющее число пользователей овладевают цифровыми компетенциями самостоятельно, не обсуждая в интернете регулярную и систематическую информацию по доработке его возможностей и не сравнивая свои цифровые знания и навыки со знаниями сверстников, родителей и экспертов.
В настоящее время большинство устройств, обеспечивающих доступ в интернет, оснащены фронтальными камерами, одновременно с этим существуют технологии оцифровки мимики, голоса, жестов, почерка для оценки психических свойств и состояний человека [4, с. 105], что может также применяться в корыстных интересах с целью оказания в дальнейшем психологического воздействия с помощью заданных алгоритмов. Современное цифровое общество подвергается разрушительному воздействию деструктивной пропаганды, ставящей под угрозу безопасность общества и страны в целом. В то же время экспертные исследований медиапродуктов пока не имеют устойчивой традиции, несмотря на возрастающую потребность в судебных психологических экспертизах информационных материалов [6, с. 246]. Особые формы культурно-информационной пропаганды способны нанести существенные политические, экономические, репутационные потери и оказать негативное психологическое воздействие на общество в целом [24, с. 184]. Отдельные представители гражданского общества, некоторые этнические, религиозные, оппозиционные группы направлены на дестабилизацию политической и социальной обстановки;
в своей деструктивной деятельности они применяют широкие возможности цифровых технологий, особое внимание уделяя применению механизмов информационно-психологического воздействия.
Ученые А. М. Столяренко, Н. В. Сердюк, В. В. Вахнина, О. М. Боева, Л. Л. Грищенко считают, что сохранение традиционных исторических духовно-нравственных ценностей является основным направлением, обеспечивающим информационную и психологическую безопасность, а также позволяющим нейтрализовать деструктивное информационное воздействие [19, с. 76].
Как и ранее, в настоящее время часто возникают несанкционированные публичные мероприятия, в которые вовлекаются представители молодежи, в том числе студенты. Подавляющее количество протестных движений имеют политическую основу и весьма распространены во многих государствах: в России, Казахстане, Украине, Белоруссии, Армении, Франции [9; 12; 13; 21] и др. Так, еще в мае 2012 года в Москве согласованный оппозиционный «Марш миллионов» перерос в массовые столкновения с полицией и задержания на Болотной площади, многим участникам, в числе которых были и студенты, вынесены обвинительные приговоры [15, с. 40]. Позже подобные мероприятия несанкционированного характера с участием молодежи были и в 2021 году в поддержку российского оппозиционера А. Навального1 [11, с. 48] и другие.
В 2013–2014 годах были массовые протестные акции в Украине, приведшие к государственному перевороту, смене власти и как следствие, к масштабному геополитическому конфликту, который ярко выражен и в настоящее время. В открытых источниках содержатся материалы, указывающие на то, что некоторая часть участников протеста имела не политические цели, а сугубо материальную заинтересованность. В интервью с журналистами «Аргументы и факты» одна из юных участниц акции сообщила, что часть протестующих была «куплена» за 20 долларов в час. Но ряд других студентов настаивали на том, что их участие добровольное, сознательное и бескорыстное. Основной способ поиска молодежи для сосредоточения на «Майдане» был реализован посредством массовых рассылок в социальных сетях, мессенджерах. Некоторые издания призывали к участию даже несовершеннолетних, а именно лиц старше 15 лет2. Источниками финансирования многих протестных акций последних десятилетий на Украине выступают западные и американские агенты [12, с. 222; 21, с. 87].
Во втором полугодии 2020 года белорусские студенты активно участвовали в демонстрациях после девятых президентских выборов, по итогам которых на пост президента был избран в шестой раз подряд А. Г. Лукашенко. В несанкционированных протестных движениях приняли участие несколько тысяч молодых людей из различных высших учебных заведений Республики Белоруссия [3, с. 112]. Ко многим участникам были применены жесткие дисциплинарные меры.
В связи с тем, что протестные акции и несанкционированные публичные мероприятия имеют широкое распространение по всему миру, а информация о подкупе ставит под сомнения их благие цели, возникает необходимость в особом внимании к психологической устойчивости личности с целью противостояния манипулированию в цифровом пространстве. По мнению журналиста и телеведущего Дмитрия Киселева, награждённого ордером «За заслуги перед Отечеством», несанкционированные публичные протестные мероприятия с участием студентов являются следствием низкого качества образования и преобладания студентов гуманитарных направлений, имеющих неоправданно завышенные ожидания от системы государственного правления1.
Результаты научных исследований дают неоднозначные данные о личной заинтересованности молодежи в политической жизни. Так, «осенью 2015 года Институт высшего образования Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обследовал 141 189 студентов-первокурсников, обучающихся в четырехлетних колледжах. Было установлено, что приблизительно у 9 % первокурсников отмечен высокий уровень желания участвовать в студенческих протестах»2. Но как далеко готовы зайти представители молодежи в своих протестах, насколько едины их требования или же выражение протеста несет значение лишь для демонстрации личного недовольства собственной жизнью — данные вопросы остаются открытыми и требуют дальнейших исследований.
В 2020 году в Приморском крае группой ученых из Владивостока (О. А. Кап-цевич, Е. Б. Марин, Н. В. Осмачко) проведен опрос 254 студентов из различных приморских вузов, возраст которых от 17 до 24 лет. Большинство опрошенных заявили, что не интересуются политикой, но в целом проинформированы о событиях, происходящих в мире политики. Из них 81,5 % респондентов не относят себя к сфере политики, а 18,5 % считают себя участниками политической жизни государства. Наиболее популярной формой участия отмечены разговоры на политические темы, а также различные варианты голосования. При этом менее выражено официальное участие в политическом процессе в виде присоединения к политической партии, участия в избирательной кампании, в молодежном движении и пр. Зависимость между формами участия в политической жизни и гендерной принадлежностью не установлена. Анализ показывает, что молодые люди, опрошенные в Приморском крае, в целом не интересуются политикой, не проявляют активного политического вмешательства, однако при этом негативно относятся к политике. Авторы проведенного исследования не стали оценивать готовность к различным формам политических протестов, так как надежность полученных данных вызывала у них сомнения по причине того, что многие участники не хотели раскрывать свою истинную готовность к этому. Любопытной остается связь между интересом к политике (в том числе любой формой политического участия) и категорией «радикальный протест». Этот факт может свидетельствовать о том, что политически активные и вовлеченные участники могут иметь потенциал и для деструктивного протеста, за которым может стоять желание социальных и индивидуальных перемен [7, с. 32].
На базе Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского была исследована мотивационно-ценностная сфера жизни 402 студента, оценена их зависимость и вовлеченность в интернет-пространство, также был проведен анкетный опрос на выявление понимания рисков информационно-цифрового пространства и оценку собственной психологической устойчивости. По результатам опроса и интервьюирования было установлено, что более 77 % студентов оценивают собственную психологическую устойчивость к рискам цифровой среды на высоком и очень высоком уровне, отмечая при этом следующие риски: потеря личных данных, призывы на несанкционированные мероприятия, привлечение к незаконным действиям, недостоверные информационные материалы, мошенничество, вредоносные программы, шантаж, продажа наркотических средств, порнография, доведение до суицида, предложение нелегальных подработок, информационный стресс («перегруз»), формирование игровой зависимости, отсутствие конфиденциальности, интер-нет-аддикция, кибербуллинг, конфликтные диалоги и др.
Для оценки изменения психологических границ при пользовании техническими средствами применялась методика (МИГ-ТС-2)1, которая позволила установить наличие высокого уровня невозможности отказа от мобильного устройства, субъективную зависимость от него, предпочтение интернет-технологий в связи с его широкими возможностями, функциональностью и удобством.
Несмотря на высокий процент зависимости от мобильных устройств и интернета, основными значимыми ценностями для студентов являются здоровье (физическое и психическое, образованность, наличие хороших и верных друзей), незначимые ценности — непримиримость к недостаткам в себе и других, счастье других, высокие запросы (высокие требования к жизни) и др.
Отметим, что для 44% опрошенных материально обеспеченная жизнь имеет большое значение, для 98% из них счастье других людей является безразличным или незначимым. Это косвенно может подтверждать готовность молодежи во имя материальной выгоды пренебрегать интересами других людей.
Обсуждение результатов исследования
Общество сталкивается с все более жестокими сценариями протеста, которые могут также выражаться в форме экстремизма и представляют угрозу безопасности как для отдельных лиц, так и для общества. Следует отметить, что сама политическая и социальная система общества определяется отношением его членов к политическим демонстрациям. «Протест как явление — предмет анализа многих социальных и гуманитарных наук. Идея о том, что протест является показателем личной зрелости и нравственности, нашла свое отражение в трудах протестантского богослова и философа Швейцера. Описывая промышленное общество как бездушное, Швейцер излагает ценности протеста и оппозиции для развития и восстановления общества, лишенного свободы мысли. В декрете «Культура и этика» им сделан вывод, что среди современников очень мало людей с истинными моральными чувствами» [2, с. 85].
В целях сохранения суверенитета государства в России разработана Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года2. Основные ее положения направлены на созидание и закрепление гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности, гордости за историю России, посредством развития культуры межнационального взаимодействия, основанного на уважении чести, национального достоинства граждан, традиционных духовных и моральных ценностей.
Возникновение интернета, вытесняющего печатные источники массовой информации, радио и телевидение, повлекло за собой ряд значимых тенденций и перемен в мировом информационном пространстве:
— упразднена монополия на создание общественного мнения. С помощью интернета популярный пользователь, которому удается привлечь внимание аудитории, может распространить ту или иную информацию и тем самым оказывать влияние на общественное мнение;
— возросла скорость распространения информации, что затрудняет возможность подтвердить подлинность. Данное явление способствует росту недостоверной информации, которую могут опубликовать даже популярные информационные агентства;
-
— непрерывный рост информационных потоков. Современные веб-браузеры построены таким образом, что искусственный интеллект, внедренный в них, изучает запросы пользователей и исходя из них строит предложения, которые зачастую самим пользователям не подвергаются глубокой оценке и исследуются поверхностно.
В цифровую эпоху для расследования преступлений важен мониторинг чатов, блогов, форумов и социальных сетей [26, с. 550], в которых может содержаться информация о расследуемом происшествии. Несмотря на виртуальность, взаимодействие по каналам связи позволяет зафиксировать электронный след
А. М. Столяренко и другими исследователями, опираясь на труды А. Г. Карая-ни, С. Г. Кара-Мурзы, Ю. П. Зинченко, были выделены следующие основные методы информационно-психологического противодействия:
-
— разъяснительная информация по актуальным значимым вопросам и интересам;
-
— установление возможных и действующих источников деструктивного информационно-психологического воздействия, обозначение методов и приемов их нейтрализации в целях снижения психологических последствий;
-
— методические рекомендации по безопасному восприятию негативной информации и уклонению от психологического воздействия, в том числе от различных форм манипуляций, ознакомление с приемами деструктивной пропаганды;
-
— рост психологической подготовленности к осуществлению задач при наличии деструктивной информации и негативного психологического воздействия;
-
— умение критически воспринимать информацию, даже если ее источником является специалист данной сферы, сохранение границ культуры и традиций;
-
— защита индивидуальности и личной позиции, основанной на фундаментальном наборе ценностей;
-
— персональная поддержка лиц, наиболее подверженных негативному влиянию и др. [19, с. 84–85].
Наиболее эффективным способом противостояния подавляющему большинству манипулятивных методов является знание и строгое соблюдение правовых норм, а также четкое выполнение своих обязанностей [19, с. 85]. Психологическое воздействие может быть правомерным и неправомерным, но в цифровой среде бывает сложно дать оценку правомерности размещения информации, которая при этом может оказывать влияние на информационно-психологическую безопасность. Особо тревожным является навязывание антисоциальных ценностных установок школьникам и подросткам. Такие установки могут укорениться в их сознании, сопровождать многие годы, способствуя совершению преступления в студенческом возрасте или в период несовершеннолетия [1, с. 131].
Одним из возможных факторов снижения социального недовольства во избежание вовлечения в несанкционированные протестные движения является преобладание среднего класса среди населения, у представителей которого достаточно денег на все, что им нужно, и они предъявляют разумные требования, поскольку большинству людей важны самореализация в условиях стабильной ситуации в государстве и наличие возможности улучшить свою жизнь законными средствами [20, с. 243]. На социальное неравенство сосредоточены и некоторые цифровые ресурсы, которые пытаются информационным давлением вызвать чувство несправедливости, уязвленности, униженности, желание борьбы за свое право на лучшую жизнь, разжигая в сердцах молодых людей готовность к протестам, не исключающим даже вооруженные восстания в целях защиты своих интересов. Но настоящие цели, которые преследуют интернет-манипуляторы, колоссально далеки от интересов молодежи, вовлекаемых в несанкционированные публичные мероприятия.
Выводы
Противостояние информационно-психологическому давлению должно быть построено на взаимосвязанных, взаимодополняемых и согласованных целях, темах, задачах и времени информационно-психологической деятельности. Важно своевременно и оперативно применять профилактические меры. Противодействие деструктивному информационно-психологическому воздействию базируется на таких принципах, как: систематичность, активность, адекватность, последовательность, уместность, сложность, эффективность [19, с. 84].
Противодействие информационной и психологической нестабильности молодежи заключается в создании благоприятного социально-психологического климата в обществе [5, с. 335; 19, с. 84], в воспитании в учебных заведениях и семьях глубокого осознания важности соблюдения законов и правопорядка, нравственности, высокой компетентности в своей выбранной специальности, психологической гибкости. Последнее в цифровом пространстве заключается:
-
— в знании форм и содержания психологической манипуляции;
-
— в овладении методами и приемами противостояния манипуляции;
-
— в навыках управления психоэмоциональным состоянием и подготовки
личных ресурсов для успешного противостояния негативному воздействию информационных потоков.
Довольно часто юные участники сожалеют о том, что приняли участие в протесте, ведь вознамерившись протестовать, они не всегда осознают возможные последствия своих действий. Для одних это способ наполнить протестной «романтикой» свободное время, для других — удовлетворение потребности в риске, доказательство своей «взрослости», любопытство, форма выражения агрессии и пр. Но в любом из этих видов реализации своей жизненной энергии так или иначе присутствуют зерна виктимности, естественной для молодых людей настроенности на борьбу за идеалы. Эта готовность либо получает социально востребованные формы проявления, либо вступает в противоречие с правовыми и общественными правилами и нормами. Поэтому так актуальна необходимость разработки и внедрения мер и технологий, направленных на психологически квалифицированное обеспечение информационно-психологической безопасности молодежи в цифровой среде.
Список литературы Информационно-психологический аспект вовлечения молодежи в несанкционированные публичные мероприятия посредством ресурсов цифровой среды
- Базаров Р. А. К вопросу о прикладной направленности криминологической и виктимо-логической теории, виктимологической профилактике в широком смысле // Виктимология. 2023. Т. 10, № 2. С. 128-137. DOI: https://doi.org/10.47475/2411-0590-2023-10202
- Гусейнов А. Ш. Феномен протестного поведения // Южно-российский журнал социальных наук. 2012. № 2. С. 82-95.
- Давыдова М. А. Социальные сети как инструменты протестной мобилизации граждан (на примере протестов в России и Белоруссии 2020-2021 гг.) // Молодежь и мир политики: границы возможного: материалы VI Всероссийского форума молодых политологов (Москва, 18 декабря 2021 года) / под общей редакцией Д. В. Алексеева, П. С. Копыловой, И. А. Помигуева. Москва: Русайнс, 2021. С. 112-114. EDN: WAUVHR.
- Енгалычев В. Ф., Леонова Е. В., Хавыло А. В. Возможности использования интеллектуальных систем машинного зрения в судебной психологической экспертизе // Вестник Российского фонда фундаментальных исследований. Гуманитарные и общественные науки. 2021. № 2 (104). С. 104-117. DOI: https://doi.org/10.22204/2587-8956-2021-104-02-104-117
- Залящев Г. С., Горностаев С. В. Антиобщественная позиция личности несовершеннолетних осужденных: от проблемы к решению // Виктимология. 2022. Т. 9, № 3. С. 330-339. DOI: https://doi.org/10.47475/2411-0590-2022-19309 EDN: KDFZZL.
- Енгалычев В. Ф. , Конева Е. В., Симонова С. В., Тарусина Н. Н. Значение гуманитарной экспертизы в юридической психологии и криминалистике // Вестник Томского государственного университета. 2022. № 482. С. 244-251. DOI: https://doi.org/10.17223/15617793/482/26
- Капцевич О. А. , Марин Е. Б. , Осмачко Н. В. Психологические аспекты политического участия и протестной готовности молодежи Приморского края // Психолог. 2021. № 1. С. 23-34. DOI: https://doi. org/10.25136/2409-8701.2021.1.34979
- Караяни А. Г. Алтарь Победы // Национальный психологический журнал. 2010. № 1 (3). С. 29-33. EDN: NXUUUD.
- Колоколова Е. Э. , Киреева К. Ф. , Мок Вон Ли. Использование социальных сетей при вербовке террористов в странах СНГ // Постсоветские исследования. 2023. Т. 6, № 6. С. 651-662. EDN: XPLVKR.
- Майоров А. В. Влияет ли цифровизация на виктимизацию в современном обществе? // Виктимология. 2022. Т. 9, № 2. С. 148-156. DOI: https://doi. org/10.47475/2411-0590-2022-19202. EDN: MLRFKH.
- Миронова Е. С. Аксиологический портрет А. А. Навального в СМИ Великобритании // Ученые записки НТГСПИ. Серия: История и филология. 2022. № 4. С. 41-58. EDN: SJOHIS.
- Наумов А. О. «Мягкая сила», «цветные революции» и технологии смены политических режимов в начале XXI века. Москва: АРГАМАК-МЕДИА, 2016. 274 с. EDN: XYCPRX.
- Паж Ж. П. Время реванша! // Мир перемен. 2023. № 3. С. 161-170. DOI: https://doi. org10.51905/2073-3038_2023_3_161 EDN: OMXLNU.
- 14 Раджапова Н С Молодежь как ядро политических протестов в современной России // Петербург — город будущего: новая городская политика в России и мире: сборник тезисов X Международной молодёжной научной конференции (Санкт-Петербург, 25-26 апреля 2019 года). Санкт-Петербург: Скифия-принт, 2020. С. 273-275. EDN: OPMJEZ.
- Риэккинен М.А. К вопросу о санкциях за неконструктивное протестное поведение: анализ судебной практики в рамках «Болотного дела» // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 3 (52). С. 38-45. EDN: TOTYSF.
- Рыбакова Ж. И. Детерминанты преступлений, совершаемых студентами образовательных организаций высшего образования // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. 2021. Т. 11, № 4. С. 73-85.
- 17 Серебренникова А В Криминологические проблемы цифрового мира (цифровая криминология) // Всероссийский криминологический журнал. 2020. Т. 14, № 3. С. 423-430. DOI: https://doi. org/10.17150/2500-4255.2020.14(3).423-430 EDN: WOBXFD.
- Солдатова Г. У. , Нестик Т. А. , Рассказова Е. И. , Зотова Е. Ю. Цифровая компетентность подростков и родителей Результаты всероссийского исследования Москва: Фонд Развития Интернет. 2013. 143 с.
- 19 Столяренко А М , Сердюк Н В , Вахнина В В , Боева О М , Грищенко Л Л Психологические аспекты деструктивного информационно-психологического воздействия // Психология и право. 2019. Т. 9. № 4. С. 75-89. DOI: https://doi. org/10. 17759/psylaw.2019090406
- Сумароков А. И. Психологические предпосылки правого государства. // Россия: тенденции и перспективы развития. 2019. № 14-1. С. 240-243.
- Фарои Т. В. Подрывная деятельность западных неправительственных организаций на постсоветском пространстве и в РФ: цели, методы и результаты // Социально-гуманитарный вестник: Всероссийский сборник научных трудов. Барнаул: ИП Колмогоров И. А. , 2023. С. 80-89. EDN: UWDAXA.
- Bobbio А. , Bruera J. , Arbach K. Victimización y polivictimización infanto-juvenil: Un estudio descriptivo en jóvenes de Argentina // Revista de Victimología. Journal of Victimology. 2022. Vol. 13. P. 9-34. DOI: https://doi. org/10.12827/RVJV.13. 01
- Gilliam H. C. , Howell K. H. , Wamser-Nanney R. , Berlin K. S. Community Violence and Code of the Streets: A Person-Centered Examination of General Strain Theory // Victims & Offenders. 2023. Vol. 18, No. 8. P. 1630-1649. DOI: https://doi. org/10.1080/15564886.2023.2197632
- Heath-Kelly C. , Shanaah S. Rehabilitation within pre-crime interventions: The hybrid criminology of social crime prevention and countering violent extremism. // Theoretical Criminology. 2023. Vol. 27, No. 2. P. 183-203. DOI: https://doi. org/10.1177/13624806221108866
- Binder J. F. , Kenyon J. Terrorism and the internet: How dangerous is online radicalization? // Frontiers in Psychology. 2022. Vol. 13. Art. 997390. DOI: https://doi.org/10,3389/fpsyg.2022.997390. EDN: RGSMYY
- Patton D. U., Hong J. S., Ranney M., Patel S., Kelley C., Eschmann R., & Washington T Social media as a vector for youth violence: A review of the literature // Computers in Human Behavior. 2014. Vol. 35. P. 548-553. DOI: https://doi.org/10. 1016/j.chb.2014.02.043
- Subrahmanyam K., Smahel D. The Darker Sides of the Internet: Violence, Cyber Bullying, and Victimization. In: Digital Youth. Advancing Responsible Adolescent Development. Springer, New York, NY 2011. pp. 179-199. DOI: https://doi. org/10.1007/978-1-4419-6278-2_10
- Walters G. D. Can a Pessimistic Outlook Moderate the Victimization-Delinquency Relationship? // Violence and Victims. 2023. Vol. 38. No. 4. P. 556-572. DOI: https://doi.org/10.1891/VV-2021-0142