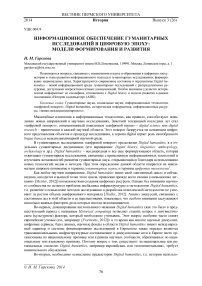Информационное обеспечение гуманитарных исследований в цифровую эпоху: модели формирования и развития
Автор: Гарскова И.М.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Историческая информатика
Статья в выпуске: 3 (26), 2014 года.
Бесплатный доступ
Поднимаются вопросы, связанные с изменениями в науке и образовании в цифровую эпоху: история и этапы развития информационного подхода в гуманитарных исследованиях, формирование национальных школ. Характеризуются современное состояние и перспективы Digital humanities - новой информационной среды гуманитарных исследований с распределенными ресурсами, доступными посредством сетевых коммуникаций. Особое внимание уделяется исторической информатике: ее специфике, отношениям с Digital history и модели развития в рамках Ассоциации «История и компьютер» (АИК).
Гуманитарные науки, социальные науки, информационные технологии, "цифровой поворот", историческая информатика, информационные ресурсы, "новая междисциплинарность"
Короткий адрес: https://sciup.org/147203571
IDR: 147203571 | УДК: 004:9
Текст научной статьи Информационное обеспечение гуманитарных исследований в цифровую эпоху: модели формирования и развития
Масштабные изменения в информационных технологиях, как правило, способствуют появлению новых направлений в научных исследованиях. Заметной тенденцией последних лет стал «цифровой поворот», ознаменованный появлением «цифровой науки» – digital science или digital research – практически в каждой научной области. Этот поворот базируется на концепции цифрового представления объектов и процедур исследования, а термин digital играет роль своеобразного lingua franca в междисциплинарной научной среде.
В гуманитарных исследованиях «цифровой поворот» представлен Digital humanities, в в отдельных гуманитарных дисциплинах (его вариациями: Digital history, linguistics, anthropology, archaeology и др.). Digital humanities – неоднородная и все еще формирующаяся область, которая охватывает гуманитарные исследования, связанные с применением информационных технологий и изучением возможностей развития гуманитарных наук, открывающихся благодаря использованию новых технологий, медиа и методов. При этом определение данной области опирается на максимально широкое понимание и термина гуманитарные науки , и термина цифровые технологии 1.
Как любое научное направление, Digital humanities имеет свой «жизненный цикл» и сейчас, видимо, находится в высшей точке этого цикла, привлекая прежде всего своими («невыносимо легкими» [ Meister , 2012]) возможностями создания цифровых ресурсов. Однако без внимания научного сообщества не остается проблема дисбаланса инфраструктуры и методологии Digital humanities , т.е. развитие и осмысление методов исследования и разработка комплексной методологии не успевают за ростом объема оцифрованного материала [ Thaller , 2012]. Анализ дискуссий, связанных с состоянием дел в этой области и ее перспективами, показывает, что особого внимания заслуживают несколько важных факторов, роль которых иногда недооценивается.
Во-первых, доминирование англоязычного названия Digital humanities (как это было в предшествующий период с названием Historical computing ) позволяет ставить вопрос о лингвистическом (культурном) факторе, который необходимо учитывать. Этот вопрос особенно часто ставят европейские ученые (см., например: [ Fiormonte , 2012]): в то время как многие научные дискуссии, цифровые сервисы, базы данных, научные фонды в области Digital humanities имеют международный характер и системы финансирования исследований в Евросоюзе также нередко являются транснациональными, инфраструктурные составляющие и дискуссионные сети в Европе часто организованы по национальному признаку или в рамках научных сообществ, образованных по национальному или языковому признаку. Поэтому вопрос о том, существуют ли национальные или региональные «модели» Digital humanities , например европейская, или «континентальная», требует внимательного обсуждения.
Во-вторых, необходимо осмысление предыстории Digital humanities , т.е. истории использо-
вания компьютерных технологий в гуманитарных науках, которая к настоящему времени насчитывает несколько десятилетий. Очевидно, что этот фактор определяет возможные оценки перспектив развития Digital humanities в ближайшем будущем как в глобальном, так и в национальном масштабе.
В-третьих, область Digital humanities междисциплинарна по своей природе, но нас интересу.т отношение к этой области сообщества историков и отношения между Digital humanities и Digital history . Существует ли единая «информационная платформа» для всех гуманитариев или информационные сервисы различны в гуманитарных дисциплинах? Какие исследовательские подходы или инструментарий представляются для историков актуальными: обработка больших объемов информации, средства информационного поиска и анализа текстов, сетевого анализа, визуализации и т.д.? Каково общее восприятие Digital history : как субдисциплины, как самостоятельной дисциплины, как стандартной инфраструктуры, инструментария исследования или группы методов, как огромной коллекции онлайн-материалов или как преходящей моды? Включает ли «новая междисциплинарность» XXI в. только расширение связей между историей и другими гуманитарными дисциплинами, а также библиотеками, архивами и иными хранилищами информации или же в этот круг следует включить и связи с социальными науками?
В России и странах СНГ направление Digital humanities (равно как и Digital history ) пока не получило такой широкой популярности, как на Западе. Для обозначения области, связанной с применением информационных технологий и компьютерных методов, используется преимущественно термин историческая информатика ( Historical information science ), а Digital history рассматривается как часть исторической информатики, связанная с приложениями современных цифровых технологий в задачах создания исторических ресурсов и оцифровки материалов в фондах музеев, архивов, библиотек [ Бородкин , 2012; Бородкин, Гарскова , 2011].
Во множестве современных западных публикаций история Digital humanities прослеживается начиная с 1960-х (и даже с 1940-х) гг.2 В действительности же Digital humanities является звеном цепочки Computers and the humanities – Humanities computing – Humanities' information science – Digital humanities . Эта цепочка возникла в момент появления в 1966 г. журнала «Computers and the Hu-manities» и возникновения в 1970-е гг. ассоциаций ALLC (Association for Literary and Linguistic Computing, 1978) и ACH (Association for Computers and the Humanities, 1978).
Несколько иначе обстоит дело в исторических исследованиях. Применительно к истории мы говорим о цепочке History and computing – Historical computing – Historical information science – Digital history . Однако эта цепочка возникла только в 1984 г., с момента создания в Великобритании Ассоциации «History and computing», когда сообщество историков начинает идентифицировать себя независимо от сообщества других гуманитариев.
Сделанный в 1960-е гг. акцент на словах computer и computing в названиях междисциплинарных направлений, связанных с информационным обеспечением гуманитарных исследований, оказался не слишком удачным. С тех пор как компьютеры стали исследовательским инструментом, «компьютинг» воспринимается как методика обработки информации с помощью компьютеров (вычислительной техники). Ограниченность этого термина, который позволяет недооценивать информационную компоненту исследования и сводить ее к «компьютингу», довольно очевидна. Во многих европейских языках для обозначения этих междисциплинарных направлений используются термины informatica и information . Поэтому неоднократно предлагалось изменить название этой междисциплинарной области на humanities information science и historical information science (см.: [ McCrank , 2002; Thaller , 1993]), и принятый в начале 2000-х гг. переход от computing к information science был вполне естественным. Помимо терминологических причин изменения названий были причины, связанные со сближением информационной компоненты в гуманитарных исследованиях и в библиотечном, архивном и музейном деле (отметим «перекличку» таких терминов, как humanities (historical) information science, library science и archival science ). Например, на Западе понятия библиотечная наука ( library science ) и архивная наука ( archival science ) прочно связаны с информационной наукой (information science) в процессе информатизации архивов и библиотек.
Но почему Humanities' information science довольно быстро уступил место Digital humanities? Возможно, это произошло под влиянием такого направления в информационном обеспечении науки и образования, как электронные библиотеки и архивы, в создании которых информационные технологии играют очень большую роль. На Западе финансируются чаще крупные проекты, ориен- тированные на информационное обеспечение гуманитарных исследований и образования, с участием не только научных и образовательных институций, но и учреждений, занимающихся сохранением историко-культурного наследия (архивов, музеев, библиотек)3. Для подобных проектов и возникло название Digital humanities4 – с одной стороны, по аналогии с Digital libraries, который часто используется не только для библиотек, но и для электронных ресурсов в самом широком смысле слова, а с другой стороны, потому, что главной целью проектов Digital humanities является информационное обеспечение науки и образования, чем всегда занимаются и традиционные, и электронные (цифровые) библиотеки.
Отличие «компьютинга» в истории от других гуманитарных приложений обусловлено несколькими обстоятельствами. Одним из них можно считать то, что направление Humanities computing с самого начала было связано с компьютерной лингвистикой и доминировалось лингвистами и литературоведами, при этом недостаточно внимания уделялось другим гуманитарным дисциплинам, в частности истории. Но более важной причиной, на наш взгляд, является большое разнообразие исторических дисциплин. Часть их, такие как историческая антропология, история искусств, история культуры, тяготеют к art and humanities , часть – экономическая и социальная история, историческая демография – к social sciences .
Уместно вспомнить, что историки использовали информационные технологии и математические методы с 1960-х гг., и это было связано с привлечением теорий, методов и подходов социальных наук, системного подхода и моделирования. В 1960-х – первой половине 1980-х гг. происходит становление направления Quantitative history , содержанием которого является развитие гуманитарных исследований с использованием вычислительной техники, созданной на основе идей математизации, наиболее последовательно реализовавшихся в работах американских историков-квантификаторов. Таким образом, можно сказать, что предыстория Digital history связана с квантитативной историей5.
Другое направление развития информационного обеспечения исторических исследований меньше связано с традициями применения компьютерных методов в социальных науках. Оно представлено в публикациях журнала «Computers and the Humanities», где статьи историков соседствуют со статьями, посвященными применению компьютерных методов для создания баз данных, обработки текстов, изображений, звука, видео и других приложений в антропологии, археологии, истории искусства, текстологии, лингвистике и литературоведении, музыковедении и исполнительском искусстве и др.
В 1980-е гг. на фоне масштабных изменений в информационных технологиях появляется историческая информатика как новое междисциплинарное направление, в рамках которого развиваются методы, подходы и инструментальные средства с учетом специфики информации исторических источников [ Гарскова , 2012]. В этот период происходит «поворот» от методов к источникам (и далее – к ресурсам в широком смысле этого слова), который отмечен значительным повышением интереса к проблематике создания баз данных и других информационных ресурсов, к мультимедийным технологиям, визуализации и который привел к тому, что постепенно роль аналитической компоненты в компьютеризованных исторических исследованиях стала снижаться, а роль ресурсной компоненты – увеличиваться. В последнее десятилетие «цифровой поворот» еще более увеличил роль ресурсной компоненты. Бесспорно, решающую роль в этом сыграли Интернет и мультимедиа технологии, оказавшие огромное влияние на науку и образование, в том числе на гуманитарную область. «Компьютинг» в гуманитарных исследованиях постепенно теряет популярность. Претензии к «компьютингу» состояли в том, что он является чрезмерно жестким, «инструментальным», удаленным от научных интересов большинства традиционных гуманитариев, ориентированным в основном на работу с оцифрованной тестовой и числовой информацией и не позволяет уделять достаточно внимания новым типам источников: мультимедийным данным, веб-сайтам, данным, полученным благодаря применению коммуникационных технологий (электронная почта, cо-циальные сети и т.п.) [ Svensson , 2009]. В результате место Humanities computing занимают Digital humanities .
Для исторической информатики поворотным пунктом в этом процессе стал 2004 год, когда были опубликованы два программных текста: отчет O. Боонстра, Л. Брере и П. Доорна, подводивший определенный итог развития исторической информатики и фиксировавший ряд проблем [ Boonstra, Breure, Doorn, 2004], и коллективная монография «Companion to Digital Humanities»
[ Companion , 2004]. На рис. 1 можно видеть, как происходит ее «замещение» «цифровой историей». На рис. 2 можно сравнить динамику Digital history и Digital humanities и обнаружить довольно синхронные процессы внедрения новой терминологии с конца 1990-х по 2008 г., за исключением существенного падения частоты использования второго термина в 2008 г. Однако этот эффект можно объяснить тем, что в Ngram Viewer пока отсутствует статистика использования термина Digital Humanities начиная с этого года.
«Цифровой поворот» оценивается в историографии как выход на более высокий уровень междисциплинарного взаимодействия гуманитарных дисциплин, поскольку Digital humanities нацелены на разработку общей инфраструктуры для информационной поддержки всей гуманитарной сферы. Это предполагает в первую очередь создание и обеспечение онлайнового доступа к большим объемам электронных (цифровых) ресурсов.
Рис. 3 свидетельствует о быстром росте интереса исследователей с начала 1990-х гг. к тематическим электронным ресурсам по сравнению с ростом ко всем остальным видами информационного обеспечения науки, например, к электронным библиотекам, электронным архивам, базам и банкам данных. Судя по материалам русскоязычной литературы (рис. 4), эта закономерность проявляется с середины 1990-х гг., хотя повышенный интерес вызывают не только электронные ресурсы, но и электронные библиотеки. Кажущееся падение интереса в англоязычной литературе к электронным ресурсам с середины 2000-х гг.можно объяснить чисто «лингвистически»: именно в это время возникает тенденция замены термина электронные на термин цифровые (данные, библиотеки, ресурсы и др.). Этот эффект демонстрирует рис. 5.
Рост профессиональных электронных ресурсов – общемировой тренд, однако масштабы этого процесса в разных странах значительно различаются. Лидерами в данной области являются США, Великобритания, Канада, Австралия, в которых находятся почти 80 центров Digital humanities из 114 существующих. Во всех странах Евросоюза и некоторых азиатских странах (Япония, Южная Корея, Тайвань) находятся еще примерно 30 центров [ Fiormonte , 2012, с. 66].
В России, как и в большинстве других стран, таких центров нет. Среди причин этого не последнее место занимают такие, как недостаточное финансирование науки и образования, более позднее начало информатизации и компьютеризации, а также отсутствие системы научных связей между гуманитарными дисциплинами в области применения информационных технологий. Тем не менее ведется разработка ресурсов, увеличивается масштаб межуниверситетских проектов, проектов с участием учреждений историко-культурного наследия, развивается международное сотрудничество.
АИК уделяет большое внимание теоретическим и прикладным проблемам создания и использования ресурсов общего назначения (электронные библиотеки, электронные архивы, виртуальные музеи) и тематических научно-образовательных ресурсов; источниковедческим вопросам разработки их структуры и содержания, комплексу археографических и архивоведческих проблем, связанных с электронными публикациями архивных документов в сетевом информационном пространстве, которые продолжали бы традиции научно-критического издания источников, и многим другим [ Воронцова, Гарскова , 2013; Гарскова, 2011]. Уже сейчас в Рунете существует множество тематических исторических ресурсов, созданных в результате выполнения крупных научных проектов в центрах, работающих в области исторической информатики6.
Сравнение отечественного опыта с европейским и мировым показывает, что наши ресурсы пока создаются в рамках отдельных гуманитарных наук и этап интеграции еще впереди, о чем свидетельствует появление первых российских междисциплинарных ресурсов (как и в других странах, это совместные проекты историков и филологов). Очевидно также, что отечественные тематические исторические ресурсы разрабатываются в основном на базе исследовательских проектов отдельных университетских лабораторий или кафедр, хотя уже есть и совместные межуниверситетские проекты. Тем не менее значительных проектов с участием архивов, библиотек, музеев, с одной стороны, и университетов или научных институтов – с другой, пока еще нет.
Следует заметить, что в Рунете также отсутствуют крупные проекты, которые могут предоставлять пользователям не только «готовые» ресурсы, но и методы и технологии исследования, поддерживая, например, программное обеспечение, которым можно воспользоваться в удаленном доступе для обработки пользовательских данных, или осуществляя по запросу исследователя выборки информации из огромных массивов первичных данных. В качестве примера можно назвать международный проект IPUMS (Integrated Public Use Microdata Series – , который создан на базе университета Миннесоты для сбора, хранения и некоммерческого предоставления пользователям национальных данных переписей населения на микроуровне. Еще один пример – портал TAPOR (Text Analysis Portal for Research – – совместный проект университета Альберты и ряда других канадских университетов и научных институтов, связанный с разработкой методов анализа текстов и предоставляющий пользователям возможность обработки, визуализации и статистического анализа текстов в режиме онлайн.
Последний пример чрезвычайно важен, поскольку соответствует более широкому пониманию роли информационного обеспечения гуманитарных исследований в цифровую эпоху, которое не сводится только к информационной инфраструктуре. Информационное обеспечение может иметь методические, технологические, программные, вычислительные, обучающие компоненты, предоставляемые пользователям в интерактивном режиме [ Alkhoven, Doorn , 2007]. Это концепция новой информационной среды с распределенными ресурсами (информационными и вычислительными), доступными пользователям посредством сетевых коммуникаций. Ее можно назвать eHumanities по аналогии с получившей распространение в естественных науках концепцией eScience [ Бородкин , 2008]. Создание ресурсов, предоставляющих гуманитариям методическую, программную, технологическую поддержку в режиме онлайн, например, средства визуализации, кон-тент-анализа, виртуальной реконструкции, пространственного анализа, позволит увеличить аналитическую компоненту, которая еще недостаточно представлена в существующих тематических ресурсах.
Разработка значительных по объему информационных ресурсов предполагает также усиление взаимодействия гуманитарных и информационных наук, а также более тесное сотрудничество гуманитариев со специалистами в сфере сохранения историко-культурного наследия, поскольку в хранилищах национальной памяти (библиотеках, архивах, музеях) собраны огромные коллекции текстовых, изобразительных и других материалов.
Наконец, практика показывает, что еще одним аспектом «новой междисциплинарности» можно считать взаимодействие гуманитарных дисциплин не только в «ресурсной» деятельности, но и в разработке приложений методов и технологий при решении таких достаточно стандартных задач, как создание и статистический анализ фактографических информационных систем и баз данных; создание полнотекстовых баз данных и текстологические исследования; электронные публикации источников; разработка стандартов тематических электронных ресурсов. Более специализированными приложениями для гуманитарных дисциплин являются математическое моделирование; статистический анализ; пространственный анализ посредством географических информационных систем (ГИС); сетевой анализ; виртуальная реконструкция объектов историко-культурного наследия.
Часть этих приложений традиционно поддерживалась аналитической компонентой в информационном обеспечении гуманитарных исследований, взаимодействием с квантитативной историей и социальными науками. Поэтому «новая междисциплинарность» должна, на наш взгляд, включать также сотрудничество гуманитарных наук с социальными науками. При отсутствии такого взаимодействия превращение исторической информатики в Digital history лишило бы ее прежней идентичности и самостоятельности и сделало бы просто частью Digital humanities 7.
В «европейской» модели поддержка аналитической компоненты обеспечивается сотрудничеством с социальными науками, т.е. аналитическая и ресурсная компоненты Digital history разделены между Social sciences и Digital humanities. С одной стороны, это дает возможность публикации в профессиональных изданиях, которые уже несколько десятков лет продолжают традиции квантитативных исследований, например, «Historical Methods» (существует с 1967 г.) (с 1978 г. – как «Histor-ical Methods Newsletter») или «Historische Sozialforschung» / «Historical Social Research» (существует с 1976 г.)8. Статьи историков в этих журналах часто относятся к таким направлениям исторического исследования, как экономическая история, социальная история, историческая демография, имеющим тесные связи с социальными науками. С другой стороны, после того как IAHC перестала проводить свои международные конференции по исторической информатике, специалисты в этой области имеют возможность встречаться на конференциях по социальным наукам. Так, в середине 2000-х гг. в рамках европейской конференции по социальной истории появляется секция (точнее, сеть) «History and Computing», в которой продолжают обсуждаться вопросы Historical computing, но уже в широком контексте социальной истории. Со временем ее название несколько раз меняется [Бородкин, Гарскова, с. 5–6], теперь это сеть «Spatial and Digital History». И все же ее тематика в основном связана с проблемами социальной, экономической и политической истории и исторической демографии (а ГИС используются как один из инструментов анализа).
Еще одна модель поддержки аналитической компоненты исторической информатики появилась в 2013 г.: в рамках 5-й Международной конференции по социальной информатике (в университете Киото) был организован семинар под названием HistoInformatics (следующий семинар состоится осенью 2014 г. на очередной конференции по социальной информатике). Эта междисциплинарная инициатива вызвана ростом объема оцифрованной информации и стремлением совершенствовать и разрабатывать новые алгоритмы и компьютерные технологии для методического обеспечения исторических исследований. Специалисты из европейских, американских и азиатских университетов обсуждали широкий круг теоретических и методических вопросов, от информационного поиска и визуализации данных до моделирования исторических процессов и применения методов искусственного интеллекта.
Наконец, обратимся к модели развития исторической информатики в России. Тесные профессиональные контакты историков-квантификаторов с АИК и общая инфраструктура этих двух междисциплинарных областей обеспечили преемственность в их развитии и, соответственно, сбалансированность аналитической и ресурсной компонент исторической информатики9. При том, что общий вектор развития современного информационного обеспечения исторических исследований в России и странах СНГ лежит в русле общемировых тенденций, форма проявления этих тенденций имеет национальную специфику. Новейшая европейская историография дает основания полагать, что этот вопрос заслуживает серьезного внимания. Трудно предсказывать, какое имя будет носить историческая информатика через год или десять лет. Во всяком случае, не название направления определяет его содержание.
Итак, в середине 1980-х гг. и середине 2000-х гг. в области применения информационных технологий в гуманитарных исследованиях произошли значительные структурные изменения, которые сопровождались появлением новые понятий: сначала Humanities ( Historical ) computing , затем Digital humanities ( history ). Подобная траектория развития описана М. Таллером в его кельнском докладе, где он рассматривает этапы, которые характерны для сменяющих друг друга периодов (длиной примерно в 15 лет) этого развития. На первом этапе в ходе гуманитарных исследований осваивается новая технология, возможно, не универсальная, но более простая в освоении и использовании. Она привлекает множество молодых энтузиастов; результаты применения технологии активно пропагандируются, появляются новые организации, проводятся конференции. На втором этапе при решении более масштабных исследовательских задач возникают проблемы, связанные с технологией и с данными и требующие глубокого анализа. На третьем этапе происходят структурные и организационные изменения, отвечающие требованиям профессионализации (и, как следствие, автономизации) сложившегося сообщества. А потом появляется новая технология, и весь цикл повторяется.
Если принять эту периодизацию, то на каком этапе развития сейчас находятся Digital humanities ? Что является сегодня доминирующей чертой Digital humanities : доступ к большим объемам информации или поиск новых аналитических методов, позволяющих ставить и решать новые исследовательские задачи? Имеется ли должный уровень методологии исследований, соответствующий обилию цифрового материала? Не ограничивают ли гуманитарные науки свои аналитические возможности, не уделяя достаточного внимания разработке новых методов и инструментов исследования? Дискуссии продолжаются.
Список литературы Информационное обеспечение гуманитарных исследований в цифровую эпоху: модели формирования и развития
- Бородкин Л.И. Приоритеты современной исторической информатики: технологии е-Science//Круг идей: междисциплинарные подходы в исторической информатике. М., 2008. С. 5-15
- Бородкин Л.И. Digital History: применение цифровых медиа в сохранении историко-культурного наследия?//Ист. информатика. 2012. №1. С. 14-21
- Бородкин Л.И., Гарскова И.М. Историческая информатика: перезагрузка?//Вестник Пермского университета. Сер.: История. 2011. Вып. 2 (16). C. 5-12
- Воронцова Е.А., Гарскова И.М. Информационное обеспечение российской исторической науки в информационном обществе: современное состояние и перспективы//Ист. журнал: научные исследования. 2013. №5. С. 487-505
- Гарскова И.М. Источниковедческие проблемы исторической информатики//Рос. история. 2010. №3. С. 153-154
- Гарскова И.М. Информационные технологии и информационный подход в исторической науке//Вестник Российского университета дружбы народов. Сер.: История России. 2011. №4. С. 110124
- Гарскова И.М. Квантитативная история и историческая информатика: эволюция взаимодействия//Нов. и новейш. история. 2011. № 1. С. 77-92
- Гарскова И.М. Гуманитарные исследования в цифровую эпоху: методы, технологии, ресурсы//Семинар ИНИОН РАН «Методологические проблемы наук об информации», 2014. URL: http://www.inion.ru/files/File/MPNI_16_Garskova_I_M_Doklad.pdf (дата обращения: 14.08.2014)
- Таллер М. Дискуссии вокруг Digital Humanities//Ист. информатика. 2012. № 1. С. 5-13
- A Companion to Digital Humanities/S. Schreibman, R. Siemens and J. Unsworth, eds. Blachwell Publishing, 2004
- Alkhoven P., Doorn P. New Research Perspectives for the Humanities//International Journal of Humanities and Arts Computing. 2007. Vol. 1, No. 1. P. 35-47
- Boonstra O., Breure L., Doorn P. Past, Present and Future of Historical Information Science. Amsterdam, 2004
- Fiormonte D. Towards a Cultural Critique of Digital Humanities//Historical Social Research. 2012. Vol. 37, No. 3. P. 59-76
- Historical Social Research. Special Issue: Digital Humanities. 2012. Vol. 37, No. 3
- Jarausch K.H. The International Dimension of Quantitative History: Some Introductory Reflections//Social Science History. 1984. Vol. 8. P. 123-132
- Jarausch K.H. (Inter)national Styles of Quantitative History//Historical Methods. 1985. Vol. 18, No. 1. P. 13-19
- McCarty W. Humanities Computing//Encyclopedia of Library and Information Science. New-York, 2003. P.1224-1235
- McCrank L. Historical Information Science. An Emerging Discipline. Medford; New Jersey, 2002. 1192 P
- Meister J. C. DH is Us or on the Unbearable Lightness of a Shared Methodology//Historical Social Research. 2012. Vol. 37, No. 3. P. 77-85
- Svensson P. Humanities Computing as Digital Humanities//DHQ. 2009. Vol. 3. No. 3. URL: http://digitalhumanities.org:8080/dhq/vol/3/3/000065/000065.html (дата обращения: 14.08.2014)
- Thaller М. Historical Information Science: Is There such a Thing? New Comments on an old Idea//Seminario Discipline Umanistiche e Informatica. Il Problema dell' Integrazione. Roma, 1993. P. 5186
- Thaller M. Controversies around the Digital Humanities: An Agenda//Historical Social Research. Special Issue: Digital Humanities. 2012. Vol. 37, No. 3. P. 7-23