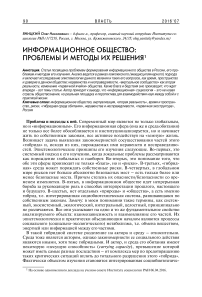Информационное общество: проблемы и методы их решения
Автор: Яницкий Олег Николаевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политическая мозаика России: актуальный ракурс
Статья в выпуске: 7, 2016 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблемам формирования информационного общества в России, его проблемам и методам его изучения. Анализ ведется в рамках комплексного (междисциплинарного) подхода и включает исследование эпистемологии данного явления и таких его вопросов, как время, пространство и доверие в данном обществе; неравенства и несправедливости, «виртуальное сообщество» как вторая реальность; изменение «первичной ячейки» общества. Какие блага и бедствия оно производит; что ждет впереди - вот темы статьи. Автор приходит к выводу, что «информационная» социология - это не новая отрасль обществознания, но реальная площадка и перспектива для взаимодействия наук между собой и с практикой жизни.
Информационное общество, виртуализация, "вторая реальность", время и пространство, риски, "гибридная среда обитания", неравенства и несправедливости, "первичная эко-структура", Россия
Короткий адрес: https://sciup.org/170168491
IDR: 170168491
Текст научной статьи Информационное общество: проблемы и методы их решения
1 На основе одноименного доклада на ученом совете Института социологии РАН 06.04.2016.
ская система, объединяющая процессы в недрах земли, в биосфере, в социуме и в космосе, т.е. некоторая 4 D -система. И именно информационный подход позволяет нам комплексно анализировать эти разнокачественные подсистемы единого целого. Интегральный (системный) подход к изучению данного «гибрида» имеет 3 временн ы х параметра: исторический, современный и прогностический. Речь идет о воздействии прошлого на настоящее ( path dependence ) и его текущих трансформациях и бифуркациях. Последние могут оказывать обратное влияние на динамику «гибрида» ( boomerang effect ). Но прогноз в форме модели будущего или сценариев развития настоящего также имеет серьезное воздействие на поведение индивидов и групп в «настоящем».
Время, доверие и пространство. Время и степень доверия – критические переменные в глобальном интернет-сообществе, особенно в ситуации принятия судьбоносных для него решений. Возможность мгновенного информационного контакта безотносительно к физическому расстоянию породило феномен инверсии пространства. Этот тезис касается всех уровней социальной организации. В критической ситуации у каждого человека есть минимум времени, чтобы спастись. У лиц, принимающих решение о нанесении (ответного) ядер-ного удара, это время также измеряется минутами. Причем это касается не только президентов и премьер-министров, но и министерства обороны и других ведомств. Предположения, что информационные взаимодействия сократят пространственную мобильность, высказывавшиеся на раннем этапе развития социально-информационной теории, не подтвердились. В информационную эпоху территориальная подвижность скорее возросла. Особенно если речь идет о массовых процессах, подобных тем, что совершаются сейчас между Африкой и Ближним Востоком, с одной стороны, и Европой – с другой. Информационная доступность стала мощным побудительным стимулом к территориальной мобильности. Более того, информационная доступность породила иллюзию легкой социальной доступности. Историки науки неоднократно указывали на рост недоверия к полученному ранее знанию, на необходимость его периодического переосмысления (О. Конт, Г. Спенсер, К. Маркс, Т. Кун, К. Мангейм, Р. Мертон, П. Штомпка). И это естественно: наука развивается, ее парадигмы время от времени пересматриваются. Хорошо также известно явление ложного (или, в современной трактовке, инсценированного) знания. Однако горе тому общественному организму, который в критической ситуации не может выбрать адекватный ответ на вызов – природный, социальный или информационный. Поэтому следует различать недоверие к научному знанию как экзистенциальную проблему познания, и недоверие к информации, на основе которой принимается решение в критической ситуации. Но и в относительно мирное время есть растущий разрыв между ускоряющимся темпом перемен и скоростью принятия и реализации решений. Примеры хорошо известны: конфликт в юго-восточной Украине и минские соглашения, перемирие в Сирии, а также глобальные соглашения по климату (Киотский протокол и др.), начатые еще в конце прошлого века, и др. Бюрократическая машина международных организаций критически отстает от скорости перемен.
Неравенства и несправедливости в информационном обществе. Прежние и существующие неравенства и несправедливости сегодня воспроизводятся в глобальном масштабе. Современный подход означает, что текущая мировая практика может как трансформировать прошлые, так и порождать новые неравенства и несправедливости. Возникает теоретически сложный вопрос: что следует взять за точку отсчета этих неравенств и несправедливостей? Если исходить из концепции смены способов производства (западные теоретики называют их технологическими революциями), то кажется, что надо отталкиваться от ситуации, созданной постинду- стриальной революцией. В действительности глобальный мир суть совокупность многих способов производства, включая традиционные. Этот тезис относится и к РФ, в которой есть множество анклавов традиционных способов производства и образа жизни. Значит, типы и характер неравенств и несправедливостей определяются субъектом, избранным социологом для исследования. Это не означает отрицание общей максимы, гласящей, что мир вообще несправедлив и неравноправен. Однако формы и степень неравенства и несправедливости должны определяться в рамках общего фрейма «субъект – среда его обитания». То, что для одних групп населения и отдельных общностей является нормой, другими группами может восприниматься как несправедливое и невыносимое.
В науке выделяются два основных типа несправедливости: ценностная и процедурная. Ценностный тип опирается на такие ключевые понятия, как «общее благо», «общественный договор» и «социальный порядок». Процедурный тип делает акцент на соблюдении обществом и его институтами демократических процедур, которые опять же опираются на понятие легитимного (то есть, одобряемого большинством данного общества) социального порядка. А именно, то, что одними группами воспринимается как достаточное, другими воспринимается как требующее изменения. Типологически неравенство также имеет два значения: «естественное» и специально созданное (сконструированное) обществом или его главными группами интересов. Наиболее распространенными примерами «естественного» неравенства являются различия в доступе к общественным благам детей и взрослых, образованных и необразованных, а также различия между носителями культуры данного общества и пришлыми, «чужаками». Так или иначе, определение неравенства между его членами и группами только по уровню дохода является ограниченным. Есть еще один вид «естественного» неравенства, требующий специального обсуждения. Страны с развитым информационным производством имеют стратегическое преимущество перед странами, развивающими добычу и продажу природных ресурсов. Первые имеют гораздо более мобильную и независимую от конкретных географических условий сеть производства и распространения социальной жизни, чем вторые. Например, увеличение, сокращение производства сырьевых ресурсов или перенаправление их инфраструктур требует гораздо большего времени и вложений, нежели соответствующая переориентация информационного производства. Исторический опыт многих стран мира, в т.ч. и России, показывает, что «естественное» неравенство преодолевается самыми разными социальными путями и технологиями: образованием, вовлечением в общественно-полезный труд, а также разными инструментами социальной политики (льготами, надбавками, временным освобождением от налогов, сокращенным рабочим днем и т.д.). Однако по мере развития информационного производства возникает неравенство, созданное неравномерностью его собственного развития в разных странах, регионах и отдельных поселенческих системах. И рычаги смягчения этого неравенства находятся в руках политиков самого разного уровня. Выбор тактики для такого смягчения зависит от местных условий. В одних случаях смягчение этого неравенства является критически важной задачей, тогда как в других оно может быть частично компенсировано, например, близостью большого города, помощью или другими способами. Однако принципиальные вопросы все же остаются. Может ли третий мир догнать информационно развитый мир? И если да, каким именно образом? Новейшая история уже предложила свои варианты: (1) постепенное «сращивание» с ним, т.е. глубокое вовлечение в его структуры и процессы; (2) сохранение своей национальной или региональной специфики или же (3) силовой захват информационного мира, симптомы которого мы сегодня видим в Европе.
Возникает принципиальный вопрос: неравенство по сравнению с чем? Одни лидеры третьего мира рассматривают информационный мир как идеальную модель, реализовать которую надо во что бы то ни стало. Иными словами, надо стремиться построить всю мировую систему по образу и подобию этого мира. Другие его лидеры предлагают использовать информационнокоммуникационные технологии для модернизации в соответствии с базовыми нормативно-ценностными представлениями, присущими данному обществу. То есть, в конечном счете, для сохранения социокультурного разнообразия его и планеты в целом. Отсюда возникает сложная стратегическая и по сей день не решенная задача: как совместить «локальное» и «глобальное»? Как соединить идею целостности, интегрированности глобального мира и принцип сохранения локальных, национальных и даже цивилизационных особенностей государств и народов? В чем суть идеальной модели соединения «ведущих» и «ведомых»? Если обратиться к опыту советской России, то можно увидеть следующие инструменты этого соединения. Это отказ от идеи «мировой социалистической революции» и переход к строительству социализма в одной стране; широкое использование западных технологий с постепенным освоением их производства на месте; создание «оазисов» высокотехнологичного производства; мобилизационный характер развития производства и общества; мощное идеологическое и пропагандистское обеспечение этих процессов. Однако советская система подготовки национальных кадров в ведущих центрах и их последующего возвращения в национальные республики себя не оправдала. Модернизационные рывки перемежались с периодами «отката» и «застоя». Постсоветская Россия также не слишком преуспела в развитии информационного производства, поскольку целиком перешла на ресурсную модель развития. Принцип «легче купить за рубежом, чем произвести самим» оказался доминирующим в экономике. Этот принцип, став не только ведущей идеей производства, но и ценностным ориентиром, последовательно препятствовал реализации идей ускорения, модернизации и импортозамещения. Ростки информационного производства есть, но они пока находятся в начальной стадии. Однако необходимый для него креативный класс может воспроизводиться только в соответствующей социальной среде. Более того, сложившаяся торгово-потребительская среда отторгает информационное производство.
Информационное общество: больше благ или бедствий? Если обратиться к глобальной динамике рассматриваемого производства, то пока трудно сказать, принесло ли оно человечеству больше бедствий или благ. Разрыв между богатыми и беднейшими странами увеличивается, войны и этнические и конфессиональные конфликты не утихают, «гибридное» (экономическое, политическое и другое) давление развитых стран на развивающиеся страны усиливается, капиталистическое производство создает все больше отходов, угрожающих глобальным изменением климата, биоразнообразие планеты сокращается и т.д. Идеи устойчивого развития, мультикультурализма и толерантности потерпели провал. Более того, использование достижений данного вида производства придало локальным войнам всеохватывающий характер, появились новые формы «наркозависимости» – компьютерная игромания. Эти игры стирают грань между виртуальной и реальной средой, сознание рядового потребителя становится «коллажным», локальные эпидемии быстро глобализируются, частота экокатастроф нарастает и т.д. Со сконструированным неравенством дело обстоит гораздо сложнее. Всегда есть возможность сослаться на колебания спроса и предложения, необходимость помощи тем или иным группам населения, рост напряженности международной обстановки и т.д. Законодательные органы непрерывно вносят поправки в существующие нормы и правила, выпускают ведомственные инструкции, которые население неспособно сразу освоить. Другая сторона этого типа неравен- ства заключена в разработке законодательных актов, временно ограничивающих применение конституционно закрепленных прав и свобод. Вывод: до сих пор информационное производство только усиливало господство развитых стран над развивающимися странами. Что вносит в эти принципы и правила появление гибридного информационного общества? Назову лишь некоторые новации: (1) это общество нестабильно, и перемены в его трендах очень трудно предсказать; (2) сущностное различие между «глобальным» и «локальным» стирается: они быстро переходят друг в друга; (3) появление виртуальной реальности как сферы человеческого бытия создает иллюзию справедливости и равенства в форме социальных сетей; (4) всеобщая мобильность лишает человека социокультурных корней и интереса к сохранению среды обитания; (5) ключевые институты социального воспроизводства критически отстают от скорости изменения потребностей общества; (6) борьба макросубъектов (национальных государств, международных организаций, корпораций) за дефицитные ресурсы выводит на первый план геополитику как системную область знания, отвечающую на вызовы глобализации.
Виртуальные сообщества как «вторая реальность». СМИ уже давно являются четвертой властью, но сегодня они уже не только «формируют» и «управляют». Развитие информационных технологий создало виртуальное сообщество как «вторую реальность», в которой живут и работают сотни миллионов людей. Конструирование виртуальных образов, правил, «надлежащих» стилей жизни становится нормой для массового потребителя. Формируется элита этого общества, которой нет дела до проблем бедных и отверженных. Благотворительность – это лишь прикрытие не только для современных celebrities , но и для большинства благотворительных инициатив фирм и корпораций. Виртуальная реальность развлекает, отвлекает, но более всего вовлекает в гонку за «богатыми и счастливыми» любыми способами, но только не упорным трудом. Поиски выгодных женихов или невест через социальные сети, обращение в брачные агентства, попытки заполучить выгодного жениха на вечеринке, тусовке, корпоративе и в других общественных местах учащаются, а число неудачниц и потерпевших – все увеличивается. СМИ создают иллюзию легкой доступности «красивой жизни». Но даже если эта сфера оставляет кого-то из молодых равнодушным, то жизнь молодого человека в социальных сетях отучает его думать, самостоятельно оценивать ситуацию и приучает слепо следовать за потоком «горячих новостей», не утруждая себя анализом причин их возникновения и возможных негативных последствий. В социальных сетях мир становится «плоским», существует только настоящее, без всякой связи с прошлым и будущим.
В среде, создаваемой «второй реальностью», изменяются характер и структура процесса социализации индивида. Еще 20 и более лет назад этот процесс имел следующие последовательные стадии: мать, семья и родственники, детский сад, школа, вуз, а затем более или менее постоянное место работы. Сегодня это уже совсем не так: 3–4-летний ребенок способен не только самостоятельно включаться в сеть, но воздействовать на структуру управления «умными» домами, предметами обихода и т.д. Далее, сегодня школа, по моему мнению, уже не столько «воспитывающая и обучающая система», сколько школа взрослой жизни, причем школа довольно жестокая. Учителя же, перегруженные заполнением отчетных форм (избыточной кодификацией, по М. Буравому), критически отстают от собственных учеников и требований времени. Сами старшеклассники и вузовская молодежь находятся в критической ситуации мини-макса. Они ищут максимальное удовлетворение своих притязаний «здесь и сейчас» при минимальном риске. А риски для них весьма существенные, т.к. значительная часть этой возрастной когорты хочет иметь все и сразу, но далеко не всегда хочет напряженно трудиться, чтобы заработать то, чего они хотят. В продуцировании критических ситуаций в известной степени участвуют и СМИ. Во-первых, конструкторы «второй реальности» делают акцент на сенсациях или катастрофических событиях (breaking news), отодвигая на второй план освещение и интерпретацию медленно идущих или подспудных изменений социального порядка и самой жизни. Во-вторых, жизнь в этой среде невольно приучает многие категории населения к некритическому восприятию действительности (пример – так называемые диванные войны, когда вовлечение индивида в реальную ситуацию войны резко отличается от ее «диванного» восприятия). В-третьих, возникает ситуация когнитивного диссонанса: эта виртуальная среда предлагает всем категориям населения готовые рецепты достижения успеха (то есть, стили жизни или некие «жизненные стратегии»), но без всяких гарантий. Любая реклама, в т.ч. социальная, заканчивается присказкой: «имеются противопоказания, посоветуйтесь с врачом или другим специалистом». В-четвертых, виртуальная среда производит информационный шум. Этот шум может быть двух видов – побочный продукт любого информационного производства и специально сконструированный шум, т.е. дезинформация. Отсюда, в-пятых, ценность инсайдерской информации для социологического или политологического исследования резко возрастает. А ценность «дистанционного» исследования, осуществляемого, в частности, через опросные сети, напротив, снижается.
Неопределенность, мобильность, многозначность и непредсказуемость той информационной среды, в которой находится современный индивид, не только затрудняет или искажает его восприятие и оценку прошлого, текущих событий, а также планы в отношении его собственного будущего. Совокупность воздействия названных выше факторов формирует у индивида феномен «коллажного сознания», который, в свою очередь, ведет к утере его идентичности. Однако, как отмечал З. Бауман еще более 20 лет назад, в мире есть миллионы людей, привязанных к месту своего жительства своей бедностью, необразованностью и безработицей. У. Бек недавно сказал: «История возвращается!» С моей точки зрения, прошлое вообще никуда не уходило. «Стрела времени» (И. Пригожин) вовсе не такая прямая, она все чаще изобилует бифуркациями и болезненными обратными ударами по современности.
Проблема первичной ячейки общества. Более 30 лет тому назад я предложил концепцию первичной экоструктуры индивида, имеющую три временных параметра: прошлое, настоящее и будущее и два состояния: включение в «большой» мир и обособление от него. Прошлое – это семейное и общекультурное наследство индивида. Настоящее – это его включенность в сети общения. Будущее – это проект поведения индивида в обозримом будущем (так называемый individual life project). Однако сегодня эта концепция уже практически не работает. Как отмечают западные социологи, вся концепция приватности (privacy), бывшая одним из краеугольных камней западной социологии, да и российской тоже (концепция индивидуального успеха), требует пересмотра. «Кокон основополагающего доверия» индивида (Э. Гидденс) постепенно разрушается. Мой дом уже более не является моей крепостью. Особенное беспокойство вызывает растущая дистанция между молодыми и старыми членами российского общества. «Мы уже давно здесь» и «вы нас уже никогда не догоните!» – типичная оппозиция этих двух поколений. У них разная картина мира, разный язык и круг общения. Старые только «доживают» или выживают, молодые же все более ориентированы на модели образа жизни, продуцируемые СМИ. Тот же разрыв существует и в отношении молодого поколения к прошлому. Раньше он преодолевался семьей, кругом общения и относительно общими задачами. Теперь же старые живут в прошлом, воспоминаниями о нем, они – «там», тогда как молодые живут только в настоящем, продуцируемым теми же СМИ и социальными сетями. Жизнь в сетях – социальный феномен, требующий детального осмысления. Говорят, что опыт Великой Отечественной войны сегодня неприменим и даже вреден. Это глубокое заблуждение. Этот опыт весьма ценен, если речь идет о личной ответственности, о связи знания и действия, о навыках поведения в критических ситуациях. Показательно, что после недавней серии терактов в Европе западные социологи заговорили о необходимости усиления соседских связей и контроля над социальными сетями.
Что впереди? Долгое время российские и зарубежные социологи интерпретировали «транзит» российского общества после распада СССР как переход от социализма к капитализму, от авторитаризма к демократии и т.д. Сегодня существует настоятельная необходимость детального анализа перехода российского общества к новому, информационному способу производства во всех его измерениях. Западные и российские социологи (П. Сорокин, Д. Александер, С.А. Кравченко и др.) уже давно говорят о необходимости «гуманистического поворота» в современной науке об обществе. К сожалению, пока что усиливается ее противоположная – технократическая – направленность. Цифры, особенно если они большие, преобладают над критическим осмыслением все более жесткой борьбы за дефицитные ресурсы и глобальное политическое доминирование. Борьбы, которая не учитывает ее негативные последствия для общества и природы. Вывод: «информационная» социология – это не новая отрасль обществознания, но реальная площадка и перспектива для взаимодействия наук между собой и с практикой жизни. Информационные связи между ними – реальный путь для большего взаимопонимания и, следовательно, для более адекватного понимания окружающего нас мира. Да, наша страна еще находится в стадии вхождения в информационное общество. Поэтому неравенства и несправедливости в этой сфере неизбежны. Однако чем интенсивнее российские социологи и политологи будут исследовать эти процессы, чем теснее сотрудничать с производителями и потребителями информационных продуктов, тем скорее нам удастся преодолеть критическую ситуацию данного переходного периода.
Статья подготовлена в рамках проекта «Социология критических состояний городских систем: теория и практика», грант РГНФ № 15-03-000-27.