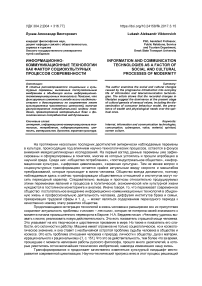Информационно- коммуникационные технологии как фактор социокультурных процессов современности
Автор: Лукаш Александр Викторович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Статья в выпуске: 3, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются социальные и культурные перемены, вызванные поступательным внедрением в обыденную жизнь информационно-телекоммуникационных технологий. Показано, что фиксируемые изменения в укладе жизни свидетельствуют о доминировании на современном этапе культурогенеза чувственных ценностей, включая распространение потребительской модели поведения, превалирование материальных благ и физиологических потребностей над духовными.
Интернет, информационно-коммуникационные технологии, потребление, киберпространство, ценность, материальное, духовное, экранная культура
Короткий адрес: https://sciup.org/14941224
IDR: 14941224 | УДК: 304.2:[004 | DOI: 10.24158/fik.2017.3.15
Текст научной статьи Информационно- коммуникационные технологии как фактор социокультурных процессов современности
КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ СОВРЕМЕННОСТИ
На протяжении нескольких последних десятилетий эмпирически наблюдаемые перемены в культуре, происходящие под влиянием научно-технологических процессов, остаются в фокусе внимания междисциплинарных исследований. На первый взгляд данные перемены уже зафиксированы и сформулированы в понятиях, многие из которых устоялись и прошли апробацию в научной среде. Среди них: «общество потребления», «постиндустриальное общество», «информационная культура», «цифровая цивилизация», «экранная культура». Тем не менее вопрос о социокультурных трансформациях остается крайне актуальным ввиду скорости и масштабов преобразований, которые происходят в жизни человека. Общество всегда динамично, поэтому наблюдаемые здесь и сейчас трансформации общественных отношений и институтов могут носить переходный характер. Следовательно, выводы и прогнозы относительно продуцируемых этими переменами явлений и процессов в политической, экономической или культурной жизни нуждаются в постоянном мониторинге и анализе. Иначе говоря, то, что переживает современное общество: поступательное внедрение информационно-коммуникационных технологий в обыденную жизнь и профессиональную деятельность человека, диффузия институтов брака и семьи, прекаризация трудовой сферы и т. д., – может являться содержанием переходного периода к качественно новому этапу развития общества.
Продолжающаяся интеграция технологий в жизнь человека и расширение зон их присутствия сохраняют актуальность проблемы « человек – техника », которая не потеряла своей значимости с момента начала промышленного переворота в Европе. Н.А. Бердяев писал: «Человеку удалось вызвать к жизни, реализовать новую действительность. Это есть показатель страшной мощи человека. Это указывает на его творческое и царственное призвание в мире. Но также и показатель его слабости, его склонности к рабству. Машина имеет огромное не только социологическое, но и космологическое значение, и она ставит с необычайной остротой проблему судьбы человека в обществе и космосе. Это есть проблема отношения человека к природе, личности к обществу, духа к материи, иррационального к рациональному» [1, с. 151]. Что это за действительность, тем более что за время, прошедшее с момента написания работы русского философа, прошло много десятилетий, в которые уместились сотни величайших технических изобретений, навсегда изменивших нашу жизнь.
Трансформировался и продолжает качественно изменяться культурный ландшафт место-развития современной цивилизации. Научно-технический прогресс внес в этот процесс решающий вклад. Если на протяжении XX в. города развитых стран с высоким уровнем индустриализации качественно меняли свою материальную инфраструктуру, т. е. создавался городской, общественный транспорт, прокладывались линии метрополитена, средств массовой коммуникации, осуществлялась электрификация и т. д., то в настоящее время наблюдается процесс интеграции созданного материального мира с цифровым, киберпространством. Современная городская среда приобретает все больше черт, которые позволяют определять ее как гипертекстуальную. Технологические изобретения все активнее внедряются в культурный ландшафт города, изменяя не столько его внешний облик, сколько поведение его жителей. Например, современный человек с помощью мобильных приложений получает возможность узнать расписания и интервал движения наземного городского транспорта, заказывать такси и отслеживать его перемещение на онлайн-карте. Он может ориентироваться на городских улицах с помощью мобильного путеводителя, узнавать через свой гаджет информацию о наличии свободных мест в кафе, ресторанах города, записываться на прием к врачу и т. д. Сегодня в мире почти миллиард домашних хозяйств обладают регулярным доступом в интернет (из них 230 млн в Китае, 60 млн в Индии и 20 млн в 48 наименее развитых странах мира) (по данным издания «Факты и цифры, касающиеся ИКТ, 2016 год»).
Коммуникационные технологии позволяют переводить исторические сведения о городе, новостной контекст, утилитарную информацию от государственных служб и ведомств в киберпространство. Цифры подтверждают тенденцию последнего десятилетия: все больше людей используют для выхода в интернет мобильные устройства. В конце 2014 г. 68 % всех пользователей интернета в российских городах хотя бы раз в месяц выходили в Сеть с помощью мобильных устройств. В 2013 г. эта доля составляла 56 % (по информации исследования «Яндекс» «Развитие интернета в регионах России», 2015 г.).
Например, чтобы узнать историко-культурные сведения о городской достопримечательности или получить необходимую справочную информацию о работе муниципальных ведомств, достаточно иметь мобильное устройство с доступом к интернету, а интересующий объект должен быть оснащен QR-кодировкой. Какими бы ни были масштабы города и численность его населения, гость или коренной житель способен адаптировать окружающее его социокультурное пространство под свои потребности и ценности. Сегодня федеральным и местным органам власти недостаточно просто оказывать материальную поддержку культурно-историческим памятникам или объектам природного значения. В ситуации доминирования маркетинговых коммуникаций на современном рынке услуг и товаров «конкурентное преимущество городов строится на уникальных городских смыслах, которые, в свою очередь, могут быть описаны с помощью символических маркеров городской идентичности» [2, с. 375], поэтому внимание и туристический интерес к городу во многом определяются качеством проецирования данных маркеров в киберпространстве.
Брендирование территории включает в себя целый комплекс мероприятий и механизмов социально-экономического, правового, политического характера, но в условиях доминирующего типа экранной культуры важно интегрировать их с информационно-коммуникативной инфраструктурой региона. Например, исторические сведения об архитектурно-мемориальных символах региона, информация о выставочно-ярмарочной деятельности города, проводимых региональных или общероссийских фестивалях, конкурсах, праздниках как визитных карточках региона, должны быть активно представлены и продвигаться в киберпространстве. По данным исследования ФОМ «Интернет в России: динамика проникновения. Весна-2016», в 2016 г. весенняя интернет-аудитория в России распределилась следующим образом: суточная аудитория – 59 % взрослых россиян, недельная – 67 %, месячная – 70 %. Аналогичные цифры за 2003 г. выглядели следующим образом: 3, 6 и 8 %. То есть месячная доля интернет-аудитории в России за 13 лет увеличилась в 9 раз. Поэтому российские регионы в конкурентной борьбе за туриста должны уделять пристальное внимание разработке мобильных программ, облегчающих поиск, выбор и оформление билетов на транспорт, мест размещения и питания, доступ к развернутой информации о досуге и т. д.
Изменились и продолжают меняться характер и структура потребления продуктов как материального, так и духовного производства. С помощью информационно-коммуникационных средств человек способен не только «сформировать» комфортную для себя городскую среду, но и индивидуализировать свое материальное и духовное потребление. Например, обрушивающийся на человека поток новостной информации со стороны специализированных агентств, радиостанций, блогов, печатных СМИ только на первый взгляд кажется хаотичным и необъятным. В России более 4,5 тыс. активных интернет-СМИ, то есть публикующих новость минимум один раз в четыре дня. С каждым годом их число растет. Несмотря на такой объем, экранная культура позволила человеку выстроить данный информационный поток исходя из своих личных предпочтений, мировоззрения, политических убеждений, религиозных ценностей и т. д. То есть индивид включен в дискурс, в котором ему комфортно и который отражает его представления о мире.
Человек проецирует себя в технике, поэтому современные гаджеты уже позволяют измерить основные параметры функционирования легочной системы, самостоятельно установить ча- стоту сокращений сердечной мышцы, также без помощи медицинского работника автономно сделать анализ крови или других жидкостей организма с помощью установленных на планшете или телефоне микрофлюидных приложений. На рынке появились успешно протестированные мобильные устройства, которые можно использовать как офтальмоскоп и отоскоп.
Под влиянием интернета серьезно изменился процесс производства, сохранения и трансляции не только новостей, но и знаний. Можно говорить о подрастающем онлайн-поколении, для которого эта процедура приобретает сугубо технологический характер. Появились специализированные ресурсы, где ни одна статья не проходит формального процесса экспертной оценки, вследствие чего гуманитарные и естественные науки страдают от лжеученых, которые получили безграничную возможность размещать и тиражировать свои тексты.
Настоящее время – это время рефлексии онлайн и виртуального диалогизма. Возможность фиксировать и делиться с неизвестным читателем своими мыслями в режиме реального времени доступна каждому. «Иллюзия, что в интернете все равны, что система “без царя в голове” и централизованного контроля позволяет каждому пробудить в себе гения, – это только иллюзия» [3, с. 552]. Поэтому в интернет-пространстве наряду с продуктивным очень силен деструктивный дискурс. Вместе с тем, быть может, активная жизнь в интернете – это один из эффективных способов эмоциональной саморегуляции человека, который позволяет людям с выраженными девиациями делиться своим недовольством, внутренним психологическим состоянием и демонстрировать в Сети те реакции, которые они никогда не решились бы проявить в реальном мире. Подсчитать процент людей, которые благодаря интернету удовлетворили потребность в выбросе негативных эмоций, вряд ли возможно.
Продолжает существенно изменяться характер материального потребления. Покупки онлайн, «посещение» интернет-магазинов постепенно изменяют традиционные представления о торговле. И.Г. Шестакова в статье, посвященной анализу современного дискурса потребления, приходит к выводу, что «глобализация в интернет-торговле близка к своему чистейшему, предельному выражению» [4, с. 61]. Новые форматы купли-продажи товаров и услуг, которые появились вместе с интернетом, существенно меняют характер и принципы взаимоотношений людей в этом процессе, стирая национальные и территориальные границы. На рынке появились и успешно работают глобальные интернет-продавцы. Региональные девелопменты также столкнулись с тенденцией ухода стационарной торговли с их площадок в онлайн-режим. И хотя объемы онлайн-торговли в России еще значительно уступают традиционным ее формам, проявления названной глобальной тенденции прослеживаются в стране уже достаточно отчетливо. В декабре 2014 г. количество интернет-покупателей (учитывались пользователи, совершавшие две и более покупки в интернете за календарный год на 100 пользователей Всемирной паутины) составило в Москве 90 человек, в Уральском федеральном округе – 83, в Приволжском федеральном округе – 75 человек (это самый низкий показатель по федеральным округам в стране) (по информации исследования «Яндекс» «Развитие интернета в регионах России», 2015 г.).
На происходящие перемены давно среагировал рекламный рынок, где традиционные форматы продвижения продукции и услуг проигрывают конкуренцию рекламе в Сети. Эффективность рекламы через социальные сети и мобильные приложения определяется ее адресностью, возможностью максимально точно установить интересующую заказчика целевую группу и предложить ей услугу или товар, на которые имеется спрос. Экранная культура как разновидность массовой культуры создала социокультурную среду, в которой каждый человек, пользующийся интернетом и тем более мобильным средством связи с выходом в Сеть, включен в большую потребительскую гонку интернет-маркетинга, от которой ему практически невозможно скрыться. Инструменты SEO, SMM и SMO настолько плотно интегрируются с сайтами и социальными сетями, что пользователь невольно за короткий промежуток времени рассказывает о себе, своих вкусах и предпочтениях больше, чем во время ответов на вопросы анкеты, составленной маркетологом.
Торговля в киберпространстве охватила абсолютно все отрасли материального производства: недвижимость, одежду, косметику и парфюмерию, машиностроение, книжную и печатную продукцию, даже сферу здравоохранения: продажа лекарственных препаратов все активнее ведется через интернет. Происходящие перемены нуждаются в адекватных изменениях нормативно-правовой базы, регулирующей торговлю. В частности, остро стоит проблема авторских прав, ведь пиратский контент музыкальной и кинопродукции превалирует над лицензионным. Эксперты, в том числе известный кинокритик К.Э. Разлогов, говорят о том, что в условиях современных технологических возможностей держателю прав песни, книги или фильма практически невозможно гарантировать защиту своей собственности на продолжительный период времени. Гораздо более эффективно сосредоточить усилия на введении мер, которые обезопасят интеллектуальную собственность автора от воровства на 1–3 года, чтобы извлечь за данный период максимальную прибыль.
Наблюдаемые тенденции и перемены, вызванные внедрением новых технологий, отчетливо вскрывают чувственный характер современной культуры. Ее главный принцип был сформу- лирован П.А. Сорокиным: «Только то, что мы видим, слышим, осязаем, ощущаем и воспринимаем через наши органы чувств, – реально и имеет смысл. Вне этой чувственной реальности или нет ничего, или есть что-либо такое, чего мы не можем прочувствовать» [5, с. 430]. Под влиянием объективных цивилизационных особенностей обществ характер проявления и конкретный набор качеств сенситивной культуры в странах отличаются, но ее принципы едины для всех культурноисторических типов современности: распространение потребительской модели поведения, доминирование материальных ценностей и превалирование физиологических потребностей над духовными. Это «я-центристская» культура, в которой человеку недостаточно просто достижения успеха или обладания чем-то материальным, ему важно рассказать о себе и своих победах этому миру. Это такой современный путь идентификации человека согласно эстетическим или социальным идеалам эпохи. В этом смысле мы свидетели процессов расчеловечивания, ведь даже «интимная жизнь… существует как бы уже не для самих ее субъектов, а для престижа» [6, с. 142].
Эти изменения актуализируют вопрос: стал ли по-настоящему свободен человек? Анализ контента социальных сетей, музыкального ряда и мирового кинопроизводства (мейнстрима) говорит о том, что сегодня доминирует индивид, который «жаждет прежде всего быть интересным для социума и востребованным этим социумом» [7, с. 143]. Экранная культура – это мощное средство визуализации стилей и стереотипов поведения, а также стремительный характер их тиражирования. Для существования в киберпространстве человек стремится преобразовать свою телесность. Экран здесь главный рефрен для человека. Поэтому, например, так стремительно развиваются социальные практики трансформации тела современным человеком: от гомологии – установления внешнего соответствия параметров тела канону/образцу/идеалу до скарификации – шрамирования, механического повреждения поверхности кожи [8, с. 70].
Смещение традиционной торговли, предоставления государственных, банковских, транспортных услуг в киберпространство изменяет структуру и характер занятости населения, так как освобождается значительная часть трудовых ресурсов. Поэтому в развитых экономиках вместо постоянной получает развитие транзитная форма занятости трудоспособного населения. Данная форма занятости может быть временной, случайной, неформальной или самозанятости. Перемены, вызванные внедрением научно-технологических достижений в практику производства, и глобальная перестройка мирового хозяйства приводят к снижению социальных гарантий труда и правовой ответственности работодателя в трудовых отношениях. Сказанное актуально для стран как с развитой, так и с развивающейся экономикой. Эти перемены – один из факторов усиления трудовой миграции и эмиграции, так как случайные и временные формы занятости не дают гарантий социального благополучия и материального обеспечения, вынуждая человека пребывать в состоянии перманентного поиска места жительства и работы.
Материальный потенциал транзитных форм занятости, о котором так ярко и активно говорит экранная культура, оказался завышен и далек от реальных возможностей экономик. Сигнал об этом был еще в 2008 г., когда в результате затянувшегося кризиса «финансовые трудности с наибольшей силой ударили не только по рабочему классу, но и по классу самозанятых работников» [9, p. 485]. Исследования социально-трудовых отношений в США Р. Райха и О. Герземанна показывают, что для сохранения покупательской способности на уровне 1970–1980-х гг. рядовому американцу в 1990–2000-е гг. из-за развития форм неполной занятости пришлось устроиться еще как минимум на одну работу. В результате в 2002 г. на среднего американца трудоспособного возраста приходилось в день 3,6 рабочего часа [10, с. 38]. Распространение в мире практики коротких контрактов, временной занятости и фриланса вносит изменения в архитектуру городского пространства: появляются коворкинги – своеобразное «третье место» между домом и работой в концепции Р. Ольденбурга.
Внедрение информационных технологий, как уже было сказано, ведет к сокращению количества привычных банковских офисов, торговых точек, порождает на рынке новых игроков, которые фактически занимаются посредническими операциями, что не позволяет снизить стоимость продукции или оказываемой услуги, как об этом говорилось на заре постиндустриальной революции. Яркий пример – траты на банковские информационные системы. Как пишет Д. Мойо, «на высокочастотный трейдинг приходится целых 73 % ежедневного объема капитала в США, и эта доля выросла с 30 % в 2005 г.» [11, с. 180]. Эта технология ввела на рынок посредника и дает ему возможности больше зарабатывать. То есть, освобождаясь от различных форм посредничества, присущих индустриальной экономике, мы объективно получаем новое посредничество постиндустриального содержания, которое, несмотря на свой незримый характер, по своим масштабам как минимум не меньше, чем на предшествующем этапе исторического развития.
По мере распространения информационно-телекоммуникационных технологий развитие и состояние сети Интернет становятся факторами, на которые все больше обращают внимание при комплексной оценке инвестиционной привлекательности регионов. Россия занимает 13-ю строчку рейтинга доступности стран к интернету. Как видно из публикуемых данных, в целом уровень доступности интернета в мире совпадает с экономической классификацией стран на развитые и развивающиеся. Масштаб цифрового разрыва между ними лучше всего отражает показатель доступа домашних хозяйств к интернету: в Европе подключены 84 % домашних хозяйств, тогда как в Африканском регионе – только 15,4 %. Во всех регионах мира без исключения показатели проникновения интернета выше для мужчин, чем для женщин. В силу ментальных и социально-экономических условий региональный гендерный разрыв наиболее значителен в Африке (23 %), наименее – в Северной и Южной Америке (2 %). В целом на глобальном уровне гендерный разрыв среди пользователей интернета продолжает расти, с 11 % в 2013 г. до 12 % в 2016 г. (по данным издания «Факты и цифры, касающиеся ИКТ, 2016 год»). Цифровое неравенство в России продолжает стремительно сглаживаться, хотя по-прежнему самый дорогой доступ к Всемирной паутине – это касается как фиксированного, так и мобильного интернета – имеет место в городах Дальнего Востока.
Социокультурная среда не является однородным и монолитным пространством. Сегодня, как и на любом другом историческом отрезке, в нем обнаруживаются явления и процессы, присущие идеалистическим, сенситивным или идеациональным ценностным системам. С одной стороны, современная информационная культура, ее телекоммуникационная основа, открыла перспективные возможности для образовательного процесса и научного обмена, сделала доступными для миллионов людей лучшие музеи, концертные залы и театральные сцены мира. Мобильность, транспарентность информации стали одними из главных черт нашего времени. С другой стороны, принципы, по которым функционирует интернет-среда, способствуют развитию дилетантства, инсинуаций, росту агрессии, чувства безнаказанности у интернет-хулиганов, чьи девиации могут вылиться в прямое насилие в реальном мире. Такие средства массовых коммуникаций, как интернет, IP-телефония, олицетворяющие современную культуру, активно используются радикальными религиозными течениями, сектами и террористическими группами, которые направляют их потенциал для манипуляции массами в своих групповых интересах. Какой из этих двух аттракторов станет определяющим в ближайшей перспективе, во многом зависит от нравственной составляющей жизни человека, укрепление и оздоровление которой являются важной задачей гуманитарных наук.
Ссылки:
-
1. Бердяев Н.А. Человек и машина (Проблема социологии и метафизики техники) // Вопросы философии. 1989. № 2. С. 147–162.
-
2. Федотова Н.Г. Городская идентичность как конкурентное преимущество территории // Ярославский педагогический вестник. 2016. № 5. С. 72–77.
-
3. Разлогов К.Э. Мировое кино. История искусства экрана. М., 2013.
-
4. Шестакова И.Г. Интернет-магазин: смещение парадигмы экономики, или цивилизационный сдвиг // Общество. Среда. Развитие. 2016. № 4. С. 60–66.
-
5. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.
-
6. Сальникова Е.В. Российское кино между стереотипами престижа и насилия // Массовая культура на рубеже веков : сб. ст. М., 2005. С. 135–147.
-
7. Там же. С. 143.
-
8. Пронькина А.В. Социокультурные практики трансформации тела как вердикт современности // Культура и цивилизация. 2016. № 4. С. 66–73.
-
9. Mühlau P. Middle class squeeze? Social class and perceived financial hardship in Ireland, 2002–2012 // The Economic and Social Review. 2014. Vol. 45, no. 4. Winter. Р. 485–509.
-
10. Герземанн О. Ковбойский капитализм: европейские мифы и американская реальность. М., 2008.
-
11. Мойо Д. Как погиб Запад. 50 лет экономической недальновидности и суровый выбор впереди. М., 2012.
Список литературы Информационно- коммуникационные технологии как фактор социокультурных процессов современности
- Бердяев Н.А. Человек и машина (Проблема социологии и метафизики техники)//Вопросы философии. 1989. № 2. С. 147-162.
- Федотова Н.Г. Городская идентичность как конкурентное преимущество территории//Ярославский педагогический вестник. 2016. № 5. С. 72-77.
- Разлогов К.Э. Мировое кино. История искусства экрана. М., 2013.
- Шестакова И.Г. Интернет-магазин: смещение парадигмы экономики, или цивилизационный сдвиг//Общество. Среда. Развитие. 2016. № 4. С. 60-66.
- Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.
- Сальникова Е.В. Российское кино между стереотипами престижа и насилия//Массовая культура на рубеже веков: сб. ст. М., 2005. С. 135-147.
- Пронькина А.В. Социокультурные практики трансформации тела как вердикт современности//Культура и цивилизация. 2016. № 4. С. 66-73.
- Mühlau P. Middle class squeeze? Social class and perceived financial hardship in Ireland, 2002-2012//The Economic and Social Review. 2014. Vol. 45, no. 4. Winter. Р. 485-509.
- Герземанн О. Ковбойский капитализм: европейские мифы и американская реальность. М., 2008.
- Мойо Д. Как погиб Запад. 50 лет экономической недальновидности и суровый выбор впереди. М., 2012.