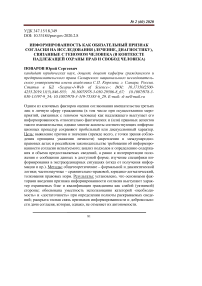Информированность как обязательный признак согласия на исследования (лечение, диагностику), связанные с геномом человека (в контексте надлежащей охраны прав и свобод человека)
Автор: Поваров Юрий Сергеевич
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Колонка главного редактора
Статья в выпуске: 2 (60), 2020 года.
Бесплатный доступ
Одним из ключевых факторов оценки согласования вмешательства третьих лиц в личную сферу гражданина (в том числе при осуществлении мероприятий, связанных с геномом человека) как надлежащего выступает его информированность относительно фактических и (или) правовых аспектов такого вмешательства; однако многие аспекты соответствующих информационных процедур сохраняют пробельный или дискуссионный характер. Цель: выявление причин и значения (прежде всего, с точки зрения соблюдения принципа уважения личности) закрепления в международно-правовых актах и российском законодательстве требования об информированности согласия испытуемого; анализ подходов к определению содержания и объема предоставляемых сведений, а равно к интерпретации положения о сообщении данных в доступной форме; изучение специфики информирования в экстраординарных ситуациях (отказ от получения информации и пр.). Методы: общетеоретические - формальной и диалектической логики; частнонаучные - сравнительно-правовой, юридико-догматический, толкования правовых норм. Результаты: установлено, что основными факторами введения признака информированности согласия выступают характер охраняемых благ и квалификация гражданина как слабой (уязвимой) стороны; обоснована уместность использования категорий «необходимость» и «достаточность» при определении полноты раскрываемых сведений; раскрыта тесная связь признаков информированности и добровольности дачи согласия, которая, однако, не отменяет их автономности.
Автономия личности, геном человека, медицинское вмешательство, персональные данные, информированное согласие
Короткий адрес: https://sciup.org/142234057
IDR: 142234057 | УДК: 349
Текст научной статьи Информированность как обязательный признак согласия на исследования (лечение, диагностику), связанные с геномом человека (в контексте надлежащей охраны прав и свобод человека)
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-14073
Область нематериальных благ, особенно в рамках дискурса неотчуждаемых прав и свобод человека, выступает предметом повышенной заботы и охраны со стороны законодателя (причем об интенсивной правовой регламентации речь главным образом идет в отношении механизмов защиты неимущественных прав и интересов). В частности, стороннее «проникновение» в личную сферу субъекта, по общему правилу, должно происходить исключительно с его согласия (а потому несанкционированное «вторжение» может быть квалифицировано даже как насилие [9, с. 96] со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями); только при подобном постулировании можно говорить о подлинном уважении достоинства и автономии личности, реальном обеспечении физической неприкосновенности гражданина и надлежащей охране его частной жизни (например, признание права на неприкосновенность частной жизни, как верно констатирует Конституционный Суд РФ в постановлении от 13 января 2020 г. № 1-П 1 , в числе прочего означает, что отношения в этом сегменте человеческого взаимодействия не могут быть подвергнуты необоснованному вмешательству любых субъектов, которым сам гражданин доступ не предоставил).
Сверхактуальный характер по вполне понятным причинам принцип согласия приобрел, прежде всего, в медицине и смежных с ней отраслях 2 (при этом шаблонным и общепризнанным стало утверждение о том, что в основе данного основного начала лежит мысль об автономии личности 3, а равно концепт личной и физической неприкосновенности [2, с. 142; 9, с. 96; 16, с. 89]). Здесь понятие добровольного согласия на медицинское вмешательство (далее – СМВ) оказалось краеугольным «…в идеологии … личных прав…» [6, с. 48] и «…главенствующим в отношениях между врачом и пациентом» [7, с. 2] 4; уверены, что даже известная забюрократизированность процедуры получения СМВ (многие специалисты небеспочвенно отмечают, что сегодня «…наблюдается несколько формальное отношение к принципу и доктрине информированного согласия» [7, с. 2]) не способна умалить высокую положительную роль института согласования, имеющего ярко выраженную гуманистическую направленность (а уж тем более – служить аргументом в пользу отказа от принципа согласия). Естественным и бесспорным стало распространение доктрины согласия и на исследования (лечение, диагностику), связанные с геномом человека: для их проведения, как справедливо заявляется в ст. 5 b) Всеобщей декларации о геноме человека и правах человека, принятой Генеральной конференцией ООН по вопросам образования, науки и культуры 11 ноября 1997 г.5 (далее – Декларация 1997 г.), следует заручиться предварительным, свободным и ясно выраженным согласием.
С течением лет доктрина СМВ стала обрастать новыми элементами и конструкциями (причем некоторые «…авторы уверены (и небеспричинно. – Ю. П.) в том, что эта область медицинского права не будет носить статический характер и в будущем» [6, с. 42-43]). В частности, сейчас почти как данность воспринимается такая характеристика согласия, как его основанность на информированности пациента (более того, в немалой степени «роль … согласия состоит в том, чтобы зафиксировать … факт предоставления информации и факт ее получения пациентом» [4, с. 116]); но, подчеркнем, если история института СМВ насчитывает уже более 100 лет, то о необходимости получения именно информированного согласия пациента заговорили значительно позднее. «Пионером» в этой части принято считать США, где по итогам рассмотрения в 1957 г.6 дела М. Сальго (парализованного в результате транслюмбальной аортографии) против Стэнфордского университета Калифорнийский апелляционный суд применил «…термин "согласие на основе полной информированности"…» и «…разъяснил, что врач нарушает свой долг перед пациентом и подлежит ответственности, если он утаивает какие-либо факты, необходимые для формирования осознанного согласия на медицинское вмешательство» [7, с. 4; 8, с. 35].
Во многом сходным образом (с точки зрения анализируемого «информационного» ракурса) осуществлялось эволюционирование доктрины согласия в некоторых иных секторах, в частности в области сбора, обработки и использования индивидуализирующих субъекта сведений (персональных данных). Принимая во внимание, что в настоящее время в свете непрекращающейся (и порою – кардинальной) модернизации технологий, позволяющих формировать мегабазы данных (при этом «…геномные информационные базы в ближайшем будущем обретут свою масштабную реализацию, выступив еще одним ресурсом, сочетающим в себе, – по точному заключению Ю.В. Радостевой, – как … позитивный, так и разрушительный потенциал» [13, с. 43]), значение принципа информированного согласия (а равно конфиденциальности) в отношениях по поводу персональных данных резко возрастает.
В действующем отечественном законодательстве требование о том, что добровольное согласие должно быть информированным, находит прямое закрепление в приложении, inter alia:
-
а) к обработке персональных данных (см. ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 7 (далее – Закон о персональных данных);
-
б) к медицинскому вмешательству (см. ст. 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 8 (далее – Закон об охране здоровья), ст. 4, 11 За-
кона РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» 9 (далее – Закон о психиатрической помощи), ст. 14 Федерального закона от 20 июля 2012 г. № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» 10 (далее – Закон о донорстве крови), п. 2 ст. 11 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 11 );
-
в) к предоставлению (на безвозмездной основе) биологического материала для производства биомедицинского клеточного продукта при пожизненном донорстве 12 , причем правовое оформление соответствующих отношений договором не отменяет необходимости дачи – в формате совершения одностороннего действия – информированного согласия (см. ч. 1, 3 ст. 33 Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах» 13 (далее – Закон о клеточных продуктах).
Особо укажем, что инициатором «запуска» информационной процедуры может быть и субъект дачи согласия (например, в силу ч. 1 ст. 18 Закона о персональных данных оператор при сборе индивидуализирующих сведений обязан предоставить субъекту персональных данных информацию, предусмотренную законом, по просьбе последнего), и его адресат (и тогда имеет место своего рода «автоматизм» исполнения обязанности по раскрытию соответствующих сведений). Одними из главных детерминант избрания законодателем того или иного «технологического» подхода к информированию – «по запросу» либо «по умолчанию» – выступают, наверное, существо и степень опасности проникновения в личную сферу (так, совершенно очевидна серьезность последствий медицинского вмешательства и т.п.).
Представляется, что основные причины исследуемого «усиления» охранительного инструментария в интересах субъекта дачи согласия (не просто согласование, а дача информированного согласия) 14 кроются в том, что объектом защиты выступают фундаментальные нематериальные ценности (жизнь, здоровье, личная неприкосновенность и др.) и (одновременно) гражданин позиционируется (и вполне обоснованно) как слабая сторона из-за невладения профессиональными знаниями (пациент, как правило, не является медицинским специалистом и т.п.), нахождения в стрессовом или ином затруднительном положении и т.д. (в этом контексте адекватным оказывается рассмотрение пациентов, которые «…вверяют врачам … такие бесценные блага, как жизнь и здоровье, и имеют ограниченные возможности самостоятельного осуществления своих прав и их защиты» в качестве «уязвимых» субъектов права 15 [2, с. 138], а потому встречающиеся иногда оценки СМВ как средства обеспечения «…равноправного активного участия пациента в процессе диагностики и лечения заболевания» [12, с. 113] кажутся несколько преувеличенными).
Экономическая же подоплека предоставления разбираемой привилегии и повышенной защиты явно носит вторичный характер, хотя, конечно, граждане-потребители в гражданско-правовых отношениях с организациями и индивидуальными предпринимателями и являются экономически более слабой и зависимой стороной (на что неоднократно и правильно акцентировалось внимание в актах Конституционного Суда РФ – см., например, постановления от 23 февраля 1999 г. № 4-П и от 11 декабря 2014 г. № 32-П, определение от 14 января 2020 г. № 1-О).
Нет никакой нужды доказывать важность соблюдения принципа информированного (осознанного) согласия в сфере геномики (в максимально широкой ее трактовке). Международно-правовые акты разумно настаивают на непреложности получения именно такой «санкции». Например, Международная декларация о генетических данных человека, принятая резолюцией Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 октября 2003 г. (далее – Декларация 2003 г.), оговаривает данное требование для сбора, обработки, использования и хранения генетических и проте-омических данных человека, а равно биологических образцов (см. ст. 2,
-
6, 8, 16, 17). Как небезосновательно подчеркивается в п. 22 Предварительного доклада «Права человека и геном человека», подготовленного в 2004 г. г-жой А.-Ю. Моток для Комиссии по правам человека Экономического и Социального Совета ООН, при проведении геномных исследований «…недостаточно лишь получить согласие потенциального участника исследования; …чтобы его согласие считалось действительным, … лицо должно быть информировано…».
Исследования (лечение, диагностика) и другие мероприятия в «зоне» геномики (учитывая, среди прочего, что они могут сопровождаться инвазивными и неинвазивными процедурами при заборе биоматериала, иметь выход на геномное редактирование в профилактических, диагностических и терапевтических целях, влечь – по итогам генотипирования – появление новых персональных данных), разумеется, могут предполагать необходимость получения любого из указанных выше видов информированных согласий (либо их совокупности). Не исключается, пожалуй, и ситуация, когда названные мероприятия не будут подпадать под действие прямо установленных законом режимов согласования; в этой связи присутствует потребность в комплексном анализе и совершенствовании нормативной базы в целях неуклонного выполнения рационального требования об обязательности дачи согласия «испытуемым», озвученного в Декларации 1997 г.
Центральным аспектом проблематики разбираемой коммуникации выступает вопрос о надлежащих содержании, структуре и объеме раскрываемых сведений. Абсолютная нормативная определенность на сей счет очевидно невозможна (из этого, однако, все-таки не вытекает, что изучаемый «…вопрос лежит не в правовой сфере законодателя, а полностью находится в компетенции … врача» [9, с. 97]), по причине чего частотным оказывается формулирование неких общих характеристик (предикатов) предоставляемой информации (полная, необходимая, достоверная и т.п.) и, в добавление к этому, обозначение (пусть и «пунктирно») подлежащих освещению тематических блоков.
Так, применительно к СМВ законодатель говорит о предоставлении полной информации по целому ряду моментов – о целях и методах оказания медицинской помощи, сопряженном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях и, наконец, о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи (см. ч. 1 ст. 20 Закона об охране здоровья); приведенный список уточняется, если речь идет о специальных случаях вмешательства, в том числе при лечении психического расстройства (в частности, специально упоминается об обязательности сообщения о болевых ощущениях, возможном риске и побочном эффекте - см. ч. 2 ст. 11 Закона о психиатрической помощи), при трансфузии (переливании) донорской крови либо ее компонентов (мимоходом заметим, что сведения о возможных последствиях трансфузии для здоровья рассматриваются законодателем не автономно, а в качестве подвида информации о целях и методах вмешательства (см. ч. 1 ст. 14 Закона о донорстве крови), что, думается, не совсем корректно).
Выявленный «двуединый» метод (в условиях, повторимся, объективных затруднений конкретизации) в целом видится довольно органичным и продуктивным.
Анализ и оценку полноты информации (в ракурсе ее «глубины», объема), полагаем, приемлемо осуществлять (на абстрактном уровне) с использованием категориальной пары «необходимость» и «достаточность» (из этого, в частности, небеспочвенно исходят В.В. Сергеев и Е.В. Горлова, по мнению которых полнота информации при даче СМВ означает необходимость и достаточность совокупности элементов информирования [15, с. 67]). Данный концептуальный подход, помимо прочего:
-
а) нацеливает на исключение неоправданных гипер- (включая псевдо-) и гипоинформирования, сопряженных с чрезмерным (излишним) или, соответственно, неполноценным (недостаточным) объемом «цирку-лируемых» сведений (развивая данную конструктивную идею, названные авторы применительно к рискам причинения боли считают необходимым и достаточным информирование пациента о ее интенсивности и длительности [15, с. 68-69]);
-
б) знаменует, по сути, требование о соразмерности информирования, которая в контексте этических представлений (а к ним неизбежно приходится прибегать при нормировании разбираемого пласта человеческих отношений) укладывается в понятие «…умеренности как одной из кардинальных человеческих добродетелей», предполагающей «^срединный выбор ("золотое правило") в поступках...» [5, с. 13].
Кроме того, считаем актуальным сфокусировать внимание на двух принципиальных моментах методологического плана.
Во-первых, определение границ информационного «насыщения», имея в виду различный уровень образованности людей, временной фактор (чрезвычайность вмешательства и др.), вариативность психологического состояния и т.п., в реальности в конечном счете не может не иметь индивидуальный (ситуативный) характер. Так, применительно к СМВ «…независимо от путей развития медицины и жесткости регламента- ции… оценивать риски … и учитывать способность пациента к осознанному восприятию и усвоению предоставленной медицинской информации, по резонному суждению О.Ю. Александровой, всегда будет … сам медицинский работник…» (что, конечно, усложняет работу врача, но «…индивидуальный подход к … пациенту – это исторически сложившаяся специфика профессиональной медицинской деятельности…») [1, с. 84]. Показательно, что для раскрытия информации лицу, страдающему психическим расстройством, о полноте ничего не говорится, вместо этого логично указывается на информирование «с учетом … психического состояния» (см. ч. 2 ст. 11 Закона о психиатрической помощи).
Изложенное отнюдь не исключает востребованности стандартизации предоставляемой информации (что, кстати, активно практикуется в медицине; в частности, направляемые Минздравом России клинические рекомендации по конкретным направлениям медицинского вмешательства обычно содержат раздел об информации, сообщаемой пациенту).
Во-вторых, пути решения исследуемой проблемы всегда будут иметь сильнейшую политико-идеологическую и нравственную окраску, отражать сложившиеся в обществе культурные, этические, религиозные и т.п. представления (традиции), на что не раз заострялось внимание в науке [9, с. 98; 16, с. 86].
Скажем, история развития взглядов и их нормативного воплощения (а равно судебной интерпретации) касательно СМВ наглядно демонстрирует смену «доктороцентристской» парадигмы «пациентоцентристским» [6, с. 44-45] либо «смешанным» подходами. По результатам всестороннего изучения моделей взаимодействия врача и пациента Е.Г. Афанасьева убедительно показывает, как «на протяжении второй половины XX в. в развитых странах наблюдается отказ от патерналистской модели … в пользу одной из трех … моделей [информационной, интерпретационной или сотрудничества], что в первую очередь связано с формированием и развитием доктрины информированного согласия» [2, с. 141].
Вообще, «определение круга необходимых сведений для принятия пациентом решения … возможно ... с точки зрения пациента ... и ... врача, причем в обоих случаях можно исходить как из объективных, так и из субъективных критериев....Получается четыре критерия: объективные критерии среднего разумного врача … и среднего разумного пациента … и субъективные критерии конкретного врача и конкретного пациента» [2, с. 142-143]. На текущий момент в мире «…с незначительным перевесом лидирует «теория профессионального стандарта», которая в качестве критерия … рассматривает поведение разумного врача при схожих обстоятельствах или существующий на данной территории медицинский обычай»; «однако ... все большее распространение получает «теория разумного пациента» (ибо «…доктор может предсказать реакцию среднего разумного пациента») [9, с. 97-98]. Рискнем предположить, что рано или поздно последний концепт получит непосредственную законодательную поддержку, тем более что уже сейчас, как верно пишет В.В. Кущенко, «…российский законодатель выбирает подход, ориентированный на максимальное информирование пациента» [9, с. 98].
Пробельным в нормативной плоскости и полемичным в науке остается вопрос об условиях (пределах) действия презумпции полноты предоставленной информации. Доминирующим, по-видимому, сегодня является подход, в соответствии с которым «…обязанность по доказыванию неполноты информирования лежит на пациенте» [14, с. 98-99]; вместе с тем, универсализм такого простого решения кажется не очевидным («…сомнения вызывает осведомленность пациента о том, что, например, лечение … будет произведено "методом радиочастотной термической терапии"…» [3, с. 21]).
Сосредоточенность законотворца на полноте предоставляемой информации, разумеется, не обесценивает значимости ее анализа и под иным углом зрения – с точки зрения достоверности, адекватности и т.д. В частности, между предоставляемой информацией и согласовываемым актом должна быть безусловная корреляция. Хорошая иллюстрация несоблюдения данной аксиомы – судебный казус об оспаривании отцовства, когда обоснованным был признан довод гражданина о том, что ему не сообщали об использовании для деторождения донорского материала, в то время как он давал согласие на производство криоконсервации собственного генетического материала и использование его для оплодотворения супруги, т.е. явно выразил намерение на рождение ребенка исключительно с использованием своих биоматериалов (см. определение Верховного Суда РФ от 26 ноября 2019 г. № 46-КГ19-24).
Напомним, что вторым получившим распространение в законодательстве направлением детализации раскрываемого контента является закрепление достаточно четкого набора тематических аспектов. Весомыми в этом измерении оказываются:
-
а) выявление и точное словесное выражение наиболее значимых содержательных моментов (не случайно в науке постоянно высказываются рекомендации об уточнении и (или) дополнении соответствующих пе-
- речней; например, памятуя о негативном влиянии лечения онкологического заболевания на репродуктивную функцию, некоторые ученые предлагают дополнить ч. 1 ст. 20 Закона об охране здоровья указанием на необходимость информирования о способах минимизации рисков медицинского вмешательства, в том числе в плане сохранения репродуктивной функции [11, с. 50-51]), при этом в одних случаях речь идет о сугубо профессиональной информации неправового характера (касаемо процесса и результатов вмешательства, его ближайших и отдаленных последствий и др.), а в других – также и об информации юридического и организационного толка (условия участия в исследовании, обязательное страхование, гарантии конфиденциальности и пр. – см., например, ч. 2 ст. 31 Закона о клеточных продуктах; срок действия согласия и способ его отзыва и пр. – см. ч. 4 ст. 9 и ч. 7 ст. 14 Закона о персональных данных).
Стоит заметить, что применительно к сфере геномики указанные предписания российского законодательства в должной мере корреспондируют положениям ст. 6 d) Декларации 2003 г. о целесообразности включения в круг предоставляемых сведений информации о целях получения, использования и хранения генетических данных, о рисках и последствиях, а также о правомерности отзыва согласия без какого-либо принуждения;
-
б) закрепление списка сведений, подлежащих сообщению в императивном порядке, исчерпывающим образом; такое решение видится гармоничным, ибо чрезмерность и неопределенность по затронутому вопросу будут способствовать неоправданной бюрократизации и отягощению врачебной деятельности (что, в свою очередь, повлечет нерациональное отвлечение медицинских работников от выполнения своих главных функций).
Стержневое значение в аспекте эффективного обеспечения осознанности выбора «испытуемого» с учетом известной сложности для восприятия неподготовленного человека узкопрофессиональной информации, имеет не только внутренний (содержательный), но и внешний аспект информирования. Поэтому абсолютно здравой оказывается законодательная норма о предоставлении информации в доступной форме (см. ч. 1 ст. 20 Закона об охране здоровья, ч. 2 ст. 11 Закона о психиатрической помощи, ч. 1 ст. 14 Закона о донорстве крови и др.), что сопряжено перво-наперво с системным (последовательным) изложением сведений достаточно понятным языком (специальная терминология может нуждаться в расшифровке и пр.). Полезными будут и ситуативное использование вспомогательных приемов и техник (например, визуализации и (или) схематизации информации), а равно создание предпосылок для после- дующей коммуникации (так, «по рекомендациям Онкологического центра Денвера в информацию для пациента можно включить просьбу обвести или подчеркнуть непонятные слова», что «…поможет пациенту не забыть появившиеся у него вопросы» [10, с. 4]; уместной и пригодной иногда может быть дача рекомендаций об обращении к определенному профессиональному изданию и т.п.).
Наконец, весьма значимым (а потому широко обсуждаемым в специальной литературе) является осторожное (деликатное) регулирование нетипичных ситуаций, когда, например:
-
1) дееспособное лицо по каким-либо причинам субъективного порядка (страх, пассивность, авантюризм и пр.) выражает неготовность к информированию. Полагаем, что и в таком случае догматическим (эталонным) должно быть все-таки правило о надлежащем информировании «испытуемого» (тем более, если вмешательство предполагает, скажем, геномное редактирование), даже вопреки его желанию (здесь мы исходим из принципа «из двух зол выбирай меньшее»). Кстати сказать, Закон об охране здоровье не делает никаких исключений на данный счет; любопытно, что обыкновением медицинской практики в США является установка, в соответствии с которой сознательный и добровольный отказ пациента от получения информации не элиминирует обязанности врача предоставить наиболее значимую информацию по меньшей мере о рисках, связанных с медицинским вмешательством [6, с. 44-46; 7, с. 7];
-
2) надлежащим образом проинформированный дееспособный субъект отказывается от дачи «санкции». Ясно, что стороннее вмешательство при таком сценарии будет носить противоправный характер; поэтому речь может идти не о его осуществлении вразрез с волей «испытуемого» лица (иначе концепт согласования лишался бы всякого смысла), а о наступлении, возможно, иных правовых эффектов. Так, отказ от медицинского вмешательства порождает новую информационную обязанность – по разъяснению в доступной форме последствий отказа (см. ч. 4 ст. 20 Закона об охране здоровья, ч. 2 ст. 12 Закона о психиатрической помощи);
-
3) подлежащая в силу закона раскрытию информация очевидно носит «зловредный» для испытуемого характер.
Бесспорно, что буквальное («сухое») следование закону (информирование – несмотря ни на что) нередко может быть этически ущербным; согласимся, например, с целесообразностью применения «…метода, который предполагает, что информация должна сообщаться в деликатной форме ввиду неблагоприятного жизненного прогноза»16, а также с уместностью в исключительных случаях (потенциальное причинение ущерба психике пациента и т.п.) использования конструкции т.н. «терапевтической привилегии» [6, с. 45-46; 7, с. 7-8]. Вместе с тем при проведении исследований (лечении, диагностике), связанных с геномом человека, сокрытие информации (даже если можно предположить, что она для него «вредна») вряд ли может быть признано безупречным и позволительным.
В завершение отметим, что в качестве другого (помимо информированности) непременного атрибута согласия, среди прочего, обычно называется добровольность его дачи. Между данными признаками существует тесная взаимосвязь, ибо осознанное принятие человеком того или иного решения относительно вторжения третьих лиц в его личную сферу напрямую зависит от владения адекватной информацией 17 (симптоматично, что в специальной медицинской литературе как одну из возможных форм принуждающего влияния на пациента интерпретируют манипуляцию данными, которые, даже не утрачивая своей объективности, подбираются «спекулятивно», т.е. таким образом, что пациент вынужденно принимает удобное для медицинских работников или исследователей решение [17, с. 142]). Тем не менее обозначенные характеристики, конечно, имеют самостоятельный «статус» (с точки зрения своего содержательного наполнения, целевых установок «внедрения» и пр.).
Список литературы Информированность как обязательный признак согласия на исследования (лечение, диагностику), связанные с геномом человека (в контексте надлежащей охраны прав и свобод человека)
- Александрова О.Ю. Проблемы реализации права пациента на информированное добровольное согласие при медицинском вмешательстве (возможные пути решения) // Вестник Эстетической Медицины. 2009. Т. 8. № 3. С. 82-87.
- EDN: OEZSHB
- Афанасьева Е.Г. Право на информированное согласие как основа юридического статуса пациента // Современное медицинское право в России и за рубежом: сборник научных трудов / отв. ред. О.Л. Дубовик, Ю.С. Пивоваров. М.: Институт научной информации по общественным наукам РАН, 2003. С. 138-156.
- EDN: OWASHD
- Богдан В.В. Принцип информирования как необходимая составляющая реализации прав граждан на охрану здоровья при оказании платных медицинских услуг // Правовые и социально-экономические проблемы современной России: теория и практика: сборник статьей V международной научно-практической конференции. Пенза: Пензенский гос. аграрный университет, 2016. С. 18-23.
- EDN: XEZNCH
- Бояринова В.И. Правовая природа информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство // Вестник Омского университета. Серия "Право". 2019. Т. 16. № 4. С. 115-124.
- DOI: 10.24147/1990-5173.2019.16(4).115-124 EDN: RCCUAC
- Должников А.В. Конституционный принцип соразмерности: междисциплинарный подход // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2020. Вып. 47. С. 6-27.
- DOI: 10.17072/1995-4190-2020-47-6-27 EDN: NVEMFB