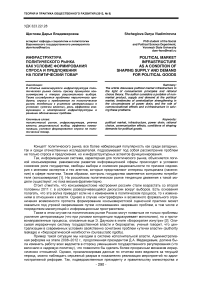Инфраструктура политического рынка как условие формирования спроса и предложения на политический товар
Автор: Щеглова Дарья Владимировна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Политические науки
Статья в выпуске: 8, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется инфраструктура политического рынка сквозь призму принципов консьюмеризма и теории рационального выбора. Также исследуются проблемы нерыночного продукта, спроса и предложения на политическом рынке, тенденции к усилению централизации в условиях «утечки власти», роль эффектов коммуникации и электронной инфраструктуры в решении обозначенных проблем.
Политический рынок, инфраструктура, утечка власти, рациональный выбор, эффекты коммуникации, условия формирования спроса на политический товар
Короткий адрес: https://sciup.org/14934599
IDR: 14934599 | УДК: 323.22/.28
Текст научной статьи Инфраструктура политического рынка как условие формирования спроса и предложения на политический товар
Концепт политического рынка, все более набирающий популярность как среди западных, так и среди отечественных исследователей, подразумевает под собой рассмотрение проблем не только спроса и предложения, но и инфраструктурных аспектов функционирования.
Так, информационная система, характерная для политического рынка, объясняется логикой консьюмеризма: равновесное развитие информационной сферы происходит в условиях снижения роли государства, свободы выбора и снижения рациональности по причине недоверия к мнениям экспертов и тех агентов, которые представляют интересы принципала (населения) в сфере политики. Таким образом, контроль государства заменяется контролем потребителя (консьюмеризм) [1]. На российском политическом рынке тенденции движения к такой модели существуют, но пока весьма фрагментарно.
Стоит отметить, что консьюмеристские настроения россиян стали возрастать со второй половины 2011 г. в условиях разворачивающейся дискуссии вокруг выборов. Есть основания полагать, что эта волна приведет если не к изменениям в политическом процессе, то к изменениям в отношении к власти. Однако в случае «контрреформ» и возможного формального ограничения возможности протеста формирование консьюмеристской оценочной практики может оказаться под угрозой сворачивания путем ««сглаживания» назревших проблем, в том числе и посредством манипуляций с информационным пространством.
Также в этом случае на политическом рынке России могут появиться не только проблемы усиления централизации (что при условии конкуренции подразумевает монополию), но и противонаправленные процессы, описанные еще Э. Даунсом в книге «Бюрократия изнутри» [2]. Описывая иерархичную систему государственной власти и бюрократии, ученый говорит, что централизации в современных условиях свойственно сочетание проблем «утечки власти» (authority leakage) и «бюрократической негибкости» (bureaucratic rigidity).
Пример такой ситуации мы находим в системе исполнительной власти. Административная реформа на этапе 2008–2012 г., продолженная президентом Д.А. Медведевым, должна была изменить работу всех ведомств в сторону уменьшения государственного регулирования (что включало и кадровую политику), что позволило бы сделать более прозрачным механизм иерархических отношений. Однако, проанализировав данные по отчетам всех ведомств за текущий период, можно наблюдать серьезный разрыв в показателях реализации мероприятий по административной реформе. Так, подведомственные президенту и правительству министерства и службы (Министерство обороны, МВД, Минюст, МИД, МЧС) показали настолько разнящиеся результаты (от 100 % выполнения в случае с Министерством обороны до 0 % – МЧС, причем показатели МВД, МИДа и Минюста нельзя назвать положительными) [3], что это явно указывает на проблемы управленческого характера, а именно невысокий авторитет управляющего и «утечку власти». Иначе говоря, в силу множества не всегда совпадающих интересов внутри бюрократической организации и далеко не самого совершенного контроля, в ней происходит ослабление власти начальства по мере того, как его приказы «спускаются вниз» по иерархической лестнице к тем, на кого они нацелены.
Утечку власти обычно пытаются компенсировать усилением централизации, внутренней специализацией и принятием всевозможных регулирующих правил, из-за которых увеличивается степень жесткости (косности) бюрократической структуры. Последнее губительно и для политического рынка в целом и для процесса рационализации принятия решений в частности.
Главный вопрос – кто будет субъектом регулирования на политическом рынке: население или государство?
Напрямую с качеством и характером госуслуг связана динамика спроса на политический товар, который носит нерыночный характер. Условия формирования спроса на нерыночную продукцию (нерыночного спроса), в том числе и политического, обычно бывают такими, что он оказывается существенно завышенным.
Искажение спроса на нерыночную продукцию в конечном счете происходит из-за того, что имеет место несовпадение между теми, кто получает выгоды от решения государства, и теми, кто эти выгоды оплачивает. Это несовпадение может иметь место как на микро-, так и на макроуровне [4].
На микроуровне указанный разрыв присутствует, когда выгоды от существующих или планируемых государственных услуг распространяются на определенную, сравнительно узкую группу населения, в то время как издержки их осуществления ложатся на всех. Выигрывающая сторона имеет в результате гораздо более сильные стимулы к поддержке этих услуг государства, чем проигрывающая сторона к противодействию им. Нерыночное предложение (предложение услуг государства) также характеризуется рядом особенностей.
Нерыночный продукт часто трудно определить, особенно сложно происходит его «вычленение» из общих вопросов для конкретного гражданина, не говоря уже о том, чтобы измерить его количество или оценить качество.
Наиболее трудно оценить качество услуг, так как отсутствует информация, которая при выпуске рыночной продукции передается производителям через выбор и поведение потребителей. Это связано с тем, что госуслуги и то, что предлагают партии и лидеры на выборах, – всегда уникальный товар. Лишь политический товар, который предоставляется конкурирующими субъектами на выборах, с большой долей условности можно сопоставлять по качеству, а госуслуги, которые также входят в понятие «политический товар» (так как напрямую связаны с наполнением предлагаемого «товара» на выборах и действиями избирателей), гораздо сложнее оценить, так как отсутствует возможность конкурентного сравнения.
Несмотря на различное наполнение политического продукта, вся «продукция» производится единственным агентством, чья исключительная монополия в определенной области законодательно закреплена. Так – область реальной конкуренции на политическом рынке происходит (и законодательно закреплена) в представительной ветви власти и на уровне местного самоуправления. Последнее в практике российской действительности встречается довольно редко, так как не задействована процедура местных референдумов, механизмы отзыва лица, замещающего выборную должность и т. п. Выявленный низкий уровень конкуренции увеличивает сложность оценки качества политической продукции.
Нерыночное производство не имеет никакого «ограничителя», подобного механизму прибылей и убытков, который устанавливается для выпуска рыночной продукции. Отсюда проистекает отсутствие надежного механизма прекращения нерыночной деятельности в случаях, когда она неуспешна. Контролером в этом случает должно выступать население (суверенный народ), то есть источник государственной власти. Однако описанные в этой статье явления, такие как негативные эффекты коммуникации, асимметрия информации, малая альтернативность выбора и серьезные «затраты» при нем, также указывают на отсутствие эффективного регулирования (и возможности его осуществить) со стороны граждан.
Достижением в развитии инфраструктуры и в отношениях «принципал – агент» можно считать развитие интернет-технологий, обеспечивающих информационное взаимодействие органов власти с населением и институтами гражданского общества. Они получили в современной литературе устойчивое наименование «электронного правительства» (e-Government). По поводу употребления этого словосочетания следует согласиться с М.С. Вершининым в том, что прямой перевод «e-Government» не совсем корректен, поскольку «понятно, что имеется в виду не только сетевая инфраструктура исполнительной власти, но в целом вся инфраструктура государственной власти и управления» [5, с. 117]. Однако подход, когда речь должна идти об «электронном государстве», «электронном государственном аппарате», «электронной инфраструктуре государства», «государстве информационного общества» применительно к российским реалиям, представляется неполным, поскольку выводит за пределы рассмотрения местное самоуправление, органы которого, согласно Конституции Российской Федерации, не входят в систему органов государственной власти. Есть тенденции к движению от электронного правительства (в понимании органов государственной власти и их информационной структуры) к электронной инфраструктуре государственного и муниципального управления, которая бы объединяла в себе технологии информационного взаимодействия между органами власти и гражданами, органами власти и институтами гражданского общества, включая бизнес-структуры и общественные объединения, а также между разными государственными и муниципальными учреждениями. Подобная модель могла бы решить многие проблемы и снизить негативные эффекты трансакций на политическом рынке России, описанные выше. Однако по-прежнему препятствиями для реализации подобной информационной структуры служат низкий уровень информационной грамотности, недостаточная компьютеризация, низкий уровень мотивации политического участия.
Но указанная модель могла бы послужить серьезным стимулом к снижению потенциальной цены на политический товар и усилий на поиски политической информации.
Обеспечение информационной открытости власти можно провести и в рамках административной реформы. Для этого необходимо принять ряд нормативных правовых актов, основу которых составят федеральные законы «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и «О служебной тайне»; создать открытые и доступные информационные ресурсы государственных органов власти и обеспечить их постоянный мониторинг на предмет полноты и транспарентности.
Развитие электронной инфраструктуры предполагает больше чем создание системы сайтов и порталов органов власти и иных учреждений: указанная мера и компьютеризация рабочих мест позволит автоматизировать часть административно-управленческой деятельности, перевести ее из «мира бумаги» в сетевое пространство. Однако, с точки зрения политической теории и концепта политического рынка, речь должна идти о серьезной трансформации самих принципов взаимодействия власти и гражданского общества, когда гражданин из объекта властно-управленческого воздействия превращается в компетентного потребителя услуг, предоставляемых корпусом государственных и муниципальных служащих, и одновременно становится полноправным участником процесса принятия политических решений как на местном, региональном, так и на общенациональном уровне.
Ссылки:
-
1. Бауман З. Индивидуализированное общество. М., 2002. 324 с.
-
2. Downs A. Inside Bureaucracy, Waveland Pr. Inc (November 1993). 1968. 292 p. [Электронный ресурс].URL:
-
3. Сводный отчет ведомств по административному исполнению планов по сокращению избыточного государственного регулирования по сферам по состоянию на апрель 2012 года // Административная реформа в России. [Электронный ресурс]. URL: http://ar.gov.ru/monitoring/monitoring_1/ (дата обращения: 19.04.2012).
-
4. Заостровцев А.П. От «провалов государства» к «провалившимся государствам» // Финансы и бизнес. 2008. № 1. С. 6–21.
-
5. Цит. по: Грачев М.Н., Мадатов А.С. Демократия: методология исследования, анализ перспектив. М., 2004.
(дата обращения: 23.04.2012).
Список литературы Инфраструктура политического рынка как условие формирования спроса и предложения на политический товар
- Бауман З. Индивидуализированное общество. М., 2002. 324 с.
- Downs A. Inside Bureaucracy, Waveland Pr. Inc (November 1993). 1968. 292 p. [Электронный ресурс].URL: http://www.rand.org/pubs/papers/P3879 (дата обращения: 23.04.2012).
- Сводный отчет ведомств по административному исполнению планов по сокращению избыточного государственного регулирования по сферам по состоянию на апрель 2012 года/Административная реформа в России. [Электронный ресурс]. URL: http://ar.gov.ru/monitoring/monitoring_1/(дата обращения: 19.04.2012).
- Заостровцев А.П. От «провалов государства» к «провалившимся государствам»//Финансы и бизнес. 2008. № 1. С. 6-21.
- Грачев М.Н., Мадатов А.С. Демократия: методология исследования, анализ перспектив. М., 2004.