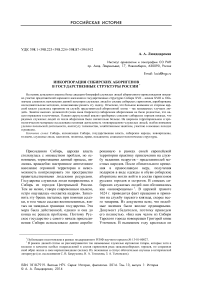Инкорпорация сибирских аборигенов в государственные структуры России
Автор: Люцидарская Анна Алексеевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 1 т.13, 2014 года.
Бесплатный доступ
На основе детального анализа более двадцати биографий служилых людей аборигенного происхождения показано участие представителей коренного населения в государственных структурах Сибири XVII – начала XVIII в. Обозначена сложность вычленения данной категории служилых людей в составе сибирских гарнизонов, апробированы исследовательские методики, позволяющие решить эту задачу. Отмечено, что большое внимание со стороны царской власти уделялось принятию на службу представителей аборигенной элиты – так называемых «лучших людей». Занятие высших должностей (чина сына боярского) сибирскими аборигенами не было редкостью, что нашло отражение в источниках. Однако скрупулезный анализ «разборных списков» сибирских городов показал, что рядовых служилых людей из числа аборигенов было значительно больше. На широком территориальном и хронологическом материале исследована основная деятельность «новокрещенов»-служилых людей, особое внимание уделено посольской деятельности, институту толмачества, хозяйственным занятиям, участию в военных походах и разведке.
Сибирь, колонизация сибири, государственная власть, сибирские народы, новокрещены, толмачи, служилые люди, идеология, политика, право, подданство, социально-политические структуры
Короткий адрес: https://sciup.org/147218992
IDR: 147218992 | УДК: 398.1+398.223+398.224+398.87+394.912
Текст научной статьи Инкорпорация сибирских аборигенов в государственные структуры России
Присоединяя Сибирь, царская власть столкнулась с множеством проблем, но основными, тормозящими данный процесс, являлись враждебно настроенное автохтонное население огромной территории и невозможность контролировать это пространство правительственными людскими ресурсами. Государевы служилые люди направлялись в Сибирь из городов Центральной России. Тем не менее, говоря современным языком, остро ощущалась «нехватка кадров». Заполнить эту брешь пытались при помощи ссылки, в том числе ссылки военнопленных, взятых на западных границах государства. Эта мера была действенной, однако и она до конца не решала проблемы. Поэтому Русское государство с самого начала присоединения Сибири использовало давно апроби- рованную в рамках своей европейской территории практику привлечения на службу недавних недругов – представителей местных народов. После обязательного крещения в православную веру, получения подарков в виде одежды и обуви сибирские аборигены могли войти в состав гарнизонов русских городов и острогов. В списках сибирских служилых людей они обозначались как «новокрещены» 1. В царской грамоте 1624 г. приводится факт крещения и принятия на службу тарского князьца, скорее всего татарина. Из документа ясно, что подобные явления были вполне ординарными. Документ убедителен, поэтому приведем его полностью. «Бил нам челом из Сибири Тарского города новокрещен Григорей княж Утюченев. В нынешнем году крестился он
* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 13-01-00027.
на Москве в православную крестьянскую веру... И мы Григория княжа Утюченева пожаловати: велели его поверстать нашим денежным и хлебным жалованьем против тарских иных новокрещенов, кому он в версту. И как к вам (воеводам. – А. Л .) ся наша грамота придет и вы бы новокрещена Гри-горя княжна Утюченева велели поверстать нашим денежным и хлебным жалованьем, примеряся к иным таким же новокрещенам, кому он в версту и велели ему нашу службу служить в Тарском городе с новокрещены с тарскими служилыми с русскими людьми вместе...» 2.
Особо сибирская администрация стремилась привлечь на свою сторону «лучших людей» из аборигенной среды, прежде всего сыновей и родичей местных князцов. Так называемые «лучшие люди» обладали, как правило, военными навыками, ориентировались в местной социально-политической обстановке, вследствие контактов с русской администрацией получали представление об основах русской государственной системы и, что немаловажно, осваивали русскую речь. Некоторым «лучшим людям» (представителям родовой элиты) довелось побывать в Москве.
Обитатели зауральских территорий – сибирские татары, манси и ханты первыми вступили в контакты с пришлыми колонистами и после относительно недолгого вооруженного сопротивления приняли русское подданство. Аборигенное население, став податным, включилось в систему сбора ясака, которая предполагала их взаимодействие с русской администрацией. Благодаря этому из их среды выдвигались наиболее активные и способные личности, которых привлекали на государеву службу.
В источниках XVII в. чрезвычайно сложно выявить среди служилых людей представителей коренного населения, так как при крещении они получали православные имена, а фамилии (в современном понимании) могли складываться самым разным образом. Если «иноземцам» западного происхождения указывали родовые фамилии и в своих подписях они зачастую путали латиницу с кириллицей, то подобные отличительные признаки отсутствовали у коренных жителей Сибири. Они получали православные имена, а «фамилия» могла образоваться либо от названия той или иной местности, ли- бо от имени крестного отца, либо от прозвища.
Как правило, «выдвиженцами» из среды аборигенов были люди из родов местной элиты. Те из них, кто обладал опытом общения с русскими, ведением дипломатических переговоров и широким кругозором, приобретенным в результате поездок, особо ценились царскими властями. Таким образом у «новокрещенов» формировался новый стиль жизни и мировоззрение, что приводило к переоценке системы ценностей. Примером может служить потомство мансийского князька Аблегирима, отмеченного в документах XVI в. Его сын был крещен в Москве, внук проживал в Пелыме в качестве государева служилого человека, а правнук Семен в 40-х гг. XVII в. был поверстан в дети боярские с высоким окладом и был женат на дочери «литвина» А. Бернадского. Сыновья Семена также имели чины детей боярских, а внук был определен в сибирские дворяне. За потомками Аблегирима, которые служили в Пелыме, Верхотурье и Тобольске, закрепилась фамилия «Пелым-ские». В XVIII в. один из них дослужился до чина армейского поручика, а другой – до титулярного советника [Бахрушин, 1955. С. 145].
Чин сына боярского до конца XVII в. являлся высшим у сибирских служилых людей. Сибирские дети боярские были помощниками воевод и осуществляли военные, административные, посольские и иные востребованные действия. Получить чин сына боярского было чрезвычайно почетно и выгодно, поэтому дети боярские старались передать его по наследству старшему сыну и «пристроить» остальных детей. Для выходца из аборигенной среды дослужиться до высшего служилого чина было крайне непросто, для этого требовались недюжинные способности и определенная «пассионарность».
Проследить жизненный путь «выдвиженцев» из среды автохтонного населения Сибири и близлежащих территорий возможно, исследуя историю дипломатических отношений в Сибири. Однако сведения эти чрезвычайно скупы, отрывочны и разбросаны по разным источникам.
Иллюстрацией сложной идентификации этнической принадлежности выходцев из аборигенной среды является томский сын боярский Василий Былин. Он стал известен по документам начиная с 1641 г. как участ- ник похода в киргизские земли Я. Тухачевского. На протяжении трех десятилетий имя Василия Былина часто упоминается в разного рода источниках, связанных с историей Томска. В 1647 г. он был направлен в Красноярск для поиска «гулящих людей», живших у частных владельцев, в 1649 г. назначен головой томских казаков, в 1655 г. проводил сыск в Красноярском и Енисейском уездах по поводу нападения на ясачное население местных казаков, в 1658 г. направлен в Мелесский острог для организации сбора ясака.
Обязанности В. Былина были разнообразны, а с середины XVII в. стали дополняться посольской деятельностью. В 1653 г. он возглавил посольство к телеутскому князю Коке. В задачу посольства входило «призвать Коку под высокую государеву руку». Умный и изворотливый телеутский правитель отклонил все предложения В. Былина. В 1667 г. Былин вновь был привлечен к дипломатическим переговорам – на этот раз с джунгарским правителем Сеньгой. Во время переговоров Былин настойчиво отстаивал российские государственные интересы. Посольство было долгим, и лишь через год его участники возвратились в Томск, успешно выполнив свою миссию.
В служилой среде Былин представлялся заметной фигурой. Во время томской «смуты» 1648–1649 гг. он выступал на стороне законной власти. В период, когда «бунтовщики» взяли верх и учинили расправу над сторонниками воеводы О. Щербатова, Былин подвергся относительно легкому наказанию, так как «смутьяны» откровенно побаивались его авторитета. В 1662 г., будучи в преклонных годах, Василий Былин как истинно православный человек совершил поездку в Москву с целью «помолиться московским чудотворцам». У него было три сына, однако их судьбы не столь богаты событиями и на службе они особо не отличились.
Истинное происхождение сына боярского Василия Былина проясняется с выходом на сцену томской жизни его внука, также сына боярского Андрея Былина. На протяжении длительного периода времени семья Былиных владела значительными земельными угодьями, расположенными в бассейне Шегарки. Из документа 1703 г. становится известно, что Былины – это потомственные сибирские татары, причем есть все основания полагать, что татары ше-гарские. Ключом к пониманию этнической принадлежности Былиных послужило «Дело о выдаче татарину сыну боярскому Андрею Былину выписки и чертежа на землю его жены в Шегарской волости». Из документа следует, что внук знаменитого Василия Былина был сибирским татарином и был женат на крещеной шегарской татарке, а ее ближайшие родственники оставались некрещеными. После женитьбы Андрей Былин получил в приданое родовые угодья своего тестя, сохранив свою идентичность в третьем поколении. Так, Андрей Былин, являясь представителем третьего поколения томской служилой верхушки, теснейшим образом контактировал с родственниками иноверцами. Кроме того, в семье сохранялась память о Василии Былине. В свое время Василий Былин за ратные заслуги был удостоен панцирем, который после его смерти перешел в другие руки. Андрей Былин в начале XVIII в. добился возвращения военной награды деда в семью [Емельянов, 1980. C. 126; Люцидарская, Гемуев, 2001; Покровский, 1989. С. 55, 130; Уманский, 1980. C. 34] 3.
Как следует из вышеизложенного, только в результате архивных изысканий и сопоставления полученных данных в редких случаях можно частично восстановить жизненные коллизии представителей служилой верхушки из среды сибирского коренного населения.
Примечательна и загадочна карьера томского дипломата сына боярского Луки Васильева, участника многих посольств в 1630– 1640 гг. к Алтын-хану. Начало его деятельности относится к первому десятилетию XVII столетия. В это время Лука Васильев упоминается в документах как «новокрещен» толмач-переводчик. В 1619 г. Васильев в составе посольства сопровождал из Москвы в Томск калмыцких посланников. В последующие годы ни одно посольство в монгольские земли к Алтын-хану не обходилось без Луки Васильева, который уже фигурировал в чине сына боярского. Так, «новокрещен» Лучка, взятый в плен служилыми людьми в военном походе, стал дипломатом, принимавшим самое непосредственное участие в урегулировании отношений с народами, подвластными царской власти, а также с их ближайшими соседями. Эта, казалось бы, стройная схема внедрения «новокрещена»
в управленческую властную структуру построена на косвенных свидетельствах разнородных источников XVII в., и начальная стадия карьеры Л. Васильева остается до конца невыясненной. Однако многочисленные аналогичные примеры, отраженные в источниках, убеждают в ее достоверности [Люцидар-ская, 1992. С. 60; Материалы…, 1974. С. 18, 31, 78, 277–279; Русско-китайские отношения…, 1969. С. 104, 538].
Инкорпорация автохтонного населения Сибири и близлежащих с ней территорий в ряды царских управленческих структур применялась по всей территории Сибири. Еще одним известным ярким образцом того, как представители аборигенного населения стали видными фигурами на политической арене Сибири в XVII в., были дети боярские Айкановы.
Наиболее известен Иван Айкан. Енисейский кыргыз по происхождению, он был родственником непримиримого противника русской власти, умного и жестокого князца Ереняка. Ребенком Иван Айканов попал к воеводе Архипу Акинфиеву и был вывезен в Москву, где долгое время работал у воеводы во дворе. Источники сообщают, что Иван «на Москве взрос» и был обучен русской грамоте. Таким образом Акинфиев создал своему дворовому воспитаннику условия для успешного продвижения в жизни, и тот ими умело воспользовался. После смерти Акинфиева Иван Айканов подал челобитную, в которой излагал просьбу о службе в Красноярском остроге, так как желал вернуться в родные места.
Оказавшись в Красноярске, Иван Айканов сначала служил толмачом, а затем «за службу и за крещение» поверстан в чин сына боярского. Он был неординарной личностью, начав смолоду проявлять стремление к новым знаниям и отличную способность к адаптации. Будучи на государственной службе среди казачьего окружения, он сумел поддерживать отношения со своими соплеменниками, негативно настроенными против русских властей. В «кыргызах» у него оставались «дядья и братья и племянники», с которыми он не мог прервать контакты.
Власти постоянно подозревали его в изменнических настроениях и сочувствию врагу. Иван Айканов в 1666 г. возглавлял поход против князца Ереняка, который закончился неудачей. Лишь благодаря поддержке атамана Кольцова (также участника похода) Айканову удалось избежать опалы.
Во время похода Айканов взял на поруки одного из пленных и, развязав того, стал с ним обниматься и плакать. По поводу действий Айканова было проведено следствие, во время которого он сумел оправдаться и выдвинуть контробвинение против воеводы Г. Никитина, добившись ответного следствия над ним. Все это стало возможным благодаря авторитету Ивана Айканова в служилой среде Красноярска. По документам 1671 г., Иван Архипов Айкан (Айканов) проживал с семейством в деревне на р. Шивера, у него было три сына и пять «купленных мунгальских новокрещенов» [Бахрушин, 1959. C. 217].
Дети И. Айканова при поддержке отца также добились успехов на служебном поприще. Сын Федор в конфликте с красноярской воеводской администрацией выступал представителем всего города. Его поддержали родные братья, служилые люди разных чинов. В домашнем быту Иван и Федор Айкановы оставались кыргызами, но прекрасно ладили с русскими казаками и торговцами. У него в доме устраивались застолья. Про Айканова шла молва, что «друзья и хлебояжцы, пьют у него и едят, ясырь и скот покупают, и деньги де он, Иван, им взаймы дает...» [Бахрушин, 1955. С. 185–186].
На пространстве Сибири почти не было города, где в числе администрации не присутствовали бы выходцы из аборигенной среды. Сын боярский Петр Албычев из мансийского рода князцов Албычевых принимал активное участие в строительстве Енисейского острога и «приводил под высокую государеву руку» близлежащее автохтонное население края [Копылов, 1965. С. 22–24, 32]. Обращает на себя внимание тот факт, что сын боярский, этнический манси, был направлен в регион для подчинения местных народов, далеких от его родных мест. Видимо, сибирские власти использовали такую практику, опасаясь ситуаций, аналогичных той, которая произошла с И. Айкановым, когда родовые отношения вмешивались в проведение государственной политики.
Почти в каждой посольской миссии в «чужие» земли среди посланников присутствовали «новокрещены», как правило выходцы из тех или иных пограничных мест. Тобольский посол из аборигенной среды Яков Бугалаков не раз принимал участие в поездках к контайше в калмыцкие улусы для переговоров [Миллер, 2005. С. 261, 297]. Послы имели определенные царские указы с претензиями и требованиями, везли обязательные подарки, и их далеко не всегда ждал радушный прием. Иногда посольства длительное время пытались добиться положительных для царского правительства решений. Из богатейших материалов Г. Ф. Миллера следует, что в столичном сибирском Тобольске в 1640-е гг. служили и деятельно участвовали в посольских мероприятиях служилые люди Лучка Кызылов и Мельмаметко Кутабердиев (сохранивший родовое имя) [Там же, 2005. С. 254]. Употребление родового имени у служилого человека могло означать, что он был из разряда служилых татар, которые не принимали крещения. Надо заметить, что юртовские служилые татары принимали активное участие в деятельности гарнизонов многих городов, особенно приграничных.
Исследуя архивные материалы XVII в. различных регионов Сибири, можно выявить множество фактов, которые свидетельствуют о внедрении автохтонного населения Сибири в высшие слои служилого населения. Рядовых казаков из числа коренных жителей, естественно, было значительно больше: имея русские имена и фамилии, они на страницах документов почти не выделялись из общей казачьей среды.
Особую, значимую роль в политической жизни Сибири играли толмачи-переводчики. Необходимые контакты с аборигенами края, которые разговаривали на непонятных для русских людей языках, создавали серьезную проблему. Несмотря на различие, а порой и диаметрально противоположное понимание вопросов миропорядка, присущих коренному населению края, пришедшим в Сибирь колонистам необходимо было искать и находить компромиссы с аборигенами. Возникала задача создать «штат» переводчиков. Уже в первые годы освоения зауральской территории проблема общения с коренным населением стала очень актуальной. В наказе пелымскому воеводе Петру Горчакову, присланному из Москвы около 1594 г., предписывалось: «…Послать князю Петру детей боярских, которые с ними с Москвы посланы в Лялин-ские Вогуличи, да Вишерские Вогуличи, которые бы умели по вогульски говорить…» [РИБ, 1875. С. 103].
Только на толмачей, официально состоявших на государевой службе, местная администрация могла полагаться в полной мере. На них лежала ответственность за адекватный перевод. Вместе с отрядами казаков толмачи отправлялись в далекие походы, а переводчики при посольских миссиях во многом способствовали успехам переговорного процесса. «Без русского толмача быть нельзя», – писал из очередного похода в 1668 г. сын боярский К. Лошаков якутскому воеводе [ДАИ, 1853. С. 339].
Толмачей условно можно разделить на две категории: к первой, наиболее многочисленной, относятся аборигены, знающие русский язык «в первом приближении», т. е. на бытовом уровне; ко второй – толмачи-переводчики, на которых воеводами возлагались ответственные обязанности по урегулированию взаимоотношений с соседствующими политическими объединениями и государствами. От умения таких толмачей ориентироваться в политической обстановке, знания ценностных критериев собеседника, понимания поставленных задач, зависел во многом ход важнейших переговоров. Неудивительно, что переводчики высокой квалификации ценились властями и получали из казны должное обеспечение. В Томске оклад городового толмача составлял 23 руб. Для примера, оклады государевых кузнецов и мельников равнялись 16 руб. Заметим, что кузнецы и мельники были крайне необходимы для функционирования жизни города [Томск в XVII в., 1911. С. 48–49]. Помимо высокого жалованья, квалифицированные толмачи получали денежные и иные поощрения.
Весьма примечательна история томичей Канаевых, которые, судя по материалам Г. Ф. Миллера, были одними из первых служилых «новокрещенов» и вели свою родословную от сына Кучума царевича Каная [Миллер, 1941. С. 26–28, 30–31, 156, 165 и др.]. Вполне приемлема и другая версия происхождения томских толмачей Канаевых. В 1646 г. из Томска были отправлены послы с «шертоприводными» грамотами к племенным объединениям Южной Сибири. Во время этого события была принята шерть от «лучших людей», в том числе и от Енту-гая Конаева, дяди воинственного князца Коки. В любом случае, томские Канаевы вели свою родословную от представителей элиты родоплеменных объединений Сибири.
Клан Канаевых, обосновавшихся в Томске, был значительным. Наиболее известен среди них служилый Василий Канаев, который в 1650-е гг. вел активную торговлю с телеутами, что свидетельствует в пользу родства с Кокой. Кроме того, Канаев со- вмещал служебные посылки с торговыми сделками. Через руки В. Канаева проходили крупные суммы [Уманский, 1980. С. 71] 4. По-видимому, В. Канаев не сразу занял место официального переводчика: сначала он числился просто служилым человеком и лишь к концу XVII в. получил статус толмача. В Томске он имел усадьбу и многочисленную родню, а в начале XVIII в. известны дети боярские Савва и Григорий Канаевы, по всей видимости, дети толмача [Кузнецов-Красноярский, 1891. С. 38–39] 5.
В 30-е гг. XVII в. при томской приказной избе значился толмач Алияр (Алиярко), неоднократно сопровождавший посольства в монгольские земли. В 1637 г. Алияр «был послан наперед к Алтын-хану» с необходимой информацией, предваряя официальную встречу послов с монгольским правителем. Служебная деятельность толмача была оценена в 8 руб., кроме того, ему была выдана подмога «против государева жалованья» [Материалы…, 1974. С. 50, 54, 60, 64, 78–79].
В формировании института толмачества можно выделить ряд сложившихся механизмов. Главным источником пополнения толмачей было выдвижение из среды гарнизонов служилых людей, знавших местные языки. Среди последних было немало «но-вокрещенов» из числа коренного населения Сибири. Путь выдвижения недавних «язычников» был непростым и предполагал много лишений. Иллюстрацией этого вполне могут служить прозвища некоторых толмачей. Так, в качестве переводчика ходил в 1613 г. «в Тунгусы и в Тюлькину землю за недобранным ясаком» вместе с отрядом казаков толмач Карпик Аманатка (аманат – заложник) [Сборник…, 1960. С. 10]. Тарский конный казак Иван Ясырь (ясырь – пленник на положении раба) служил в качестве переводчика в 1630-е гг. Он принимал участие во многих посольских миссиях. Из отписки тобольского воеводы Г. Куракина следует, что Ивашко «послов тех видел и посольские их речи слышал сам, что де он Ивашко, кол-мацкой язык знает…». В результате этого посольства Иван Ясырь выведал от некоего бухарца необходимые сведения о готовящемся походе татар под Тару [Материалы…, 1974. С. 27, 176, 243, 254].
Использование в качестве переводчиков бывших ясырей или аманатов являлось обычным делом, а их дальнейшее продвижение (после крещения) по служебной и социальной лестнице зависело от личных качеств и степени доверия к ним со стороны властных структур. Замечены прецеденты, когда новокрещены, в том числе и гарнизонные толмачи, изменяли служебному долгу и возвращались к своим соплеменникам. Как правило, это было характерно для начального этапа колонизационного процесса, который в разных регионах Сибири имел свои сроки и специфику. На периферии, особенно на северо-востоке Сибири, процесс вхождения территорий в состав России шел значительно медленнее и сложнее. Не последнюю роль здесь играло отсутствие адекватного диалога между сторонами [Зуев, Люцидарская, 2010. С. 52–54]. Причин этому обстоятельству было немало, в том числе сказывалась и нехватка квалифицированных переговорщиков, которые могли бы устанавливать необходимые контакты между представителями совершенно разных культур.
Привлечение случайных людей к ведению диалога между колонистами и аборигенами края зачастую только усложняло задачу нормализации мирных отношений. Неудивительно, что такого рода «толмаче-ство» приводило порой к печальным последствиям. На Колыме в 1649 г. для толма-чества был привлечен ясачный якут, некто Арсютка, весьма плохо владевший русским языком и не знавший реальной ситуации в регионе. Ничего хорошего из этого не вышло. Толмач был убит в драке с русским казаком [ДАИ, 1848. С. 211]. Подобных негативных, а порой и трагических моментов насчитывалось немало в местах, не обеспеченных адекватными переводчиками, поэтому квалифицированные толмачи так высоко ценились сибирской администрацией.
Среди рядового состава сибирского казачества в гарнизонах сибирских городов насчитывалось немалое количество новокре-щенов из числа аборигенного населения. Как уже упоминалось выше, вычислить их из списков казаков (преимущественно пеших) почти невозможно, если они не продвигались по служебной лестнице или не были замечены в каких-либо нарушениях. В редких случаях, когда служилые казаки из аборигенной среды обращались к властям с челобитными, они указывали на свое происхождение. Так, в середине XVII в. из
Кетского острога была отправлена в Москву жалоба служилого казака Карпа Федорова на бывшего местного воеводу. Автор этого документа называет себя сыном новокрещена 6. В царской грамоте енисейскому воеводе 1649 г. имеется такая запись: «…Крещеный ясырь мужского пола велено верстать в службу, кто в какую пригодится…» [Сборник…, 1960. С. 145]. Большинство аборигенов верстались в государеву службу именно по принципу «куда пригодится».
Кузнецкий конный казак Иван Байдай, в «сказке» 1680 г., пересказывая свой путь в служилое сословие, сообщил, что в начале 1640-х гг. он был «взят в полон» в Карса-гальской волости. Затем у служилых кузне-чан его купил устюжанин, торговый человек, и, крестя в православную веру, «бил челом», чтобы поверстать его в конные казаки. В результате И. Байдай оказался в составе кузнецкого гарнизона. С момента пленения прошло около 10 лет, и, будучи в зависимости у торгового человека, И. Байдай, вероятно, помогая своему хозяину в торговых операциях, вполне освоился в новой среде [Каменецкий, 2005. С. 320]. В данной ситуации особенно наглядно проступает наличие случайного фактора. Если бы аборигена Байдая приобрел служилый-землевладелец, то скорее всего Байдай провел бы все отпущенное ему время на пашенной заимке, занимаясь крестьянским трудом, не помышляя о карьере конного казака.
Дети новокрещенов, прошедшие успешную адаптацию, совершенно сливались с общей казачьей массой. Интересен факт, когда сын новокрещена казак Карпунка Федоров, заручившись поддержкой местных служилых людей, подал жалобу на бывшего воеводу Кетского острога В. Отаева, отстаивая интересы местного подьячего. В своей челобитной он ссылался на то, что «...мы, холопи твои, в том тебе, государь, крест целовали, что за правду и за твое государево дело стоять», а также сообщает, что служил 40 лет в Сургуте и 14 лет несет службу в Кетском остроге 7.
Казаков из числа автохтонов часто использовали с разведывательной целью. В 1630 г. новокрещенов А. Алатайка и Г. Елизарова отправили «проведать подлинных вестей» про намерения местных ко- ренных жителей, обитавших в устье Томи [Миллер, 1941. С. 364].
Кроме службы в гарнизонах, аборигены привлекались к выполнению всяческих хозяйственных обязанностей, состоя при этом на государственной службе. Зачастую они работали в качестве сторожей, банщиков, прорубщиков прорубей и т. п. В 1640-х гг. в Нарыме при государевой бане в банщиках служил новокрещен Сенька Мокеев, который подал челобитную с просьбой освободить его от означенной должности, перечисляя все подробности своего тяжкого бытия. Последовала резолюция из Москвы, в которой предписывалось назначить банщику в помощники служилых новокреще-нов 8. В эти же годы в Нарыме новокрещен Иван Монгулкнок попросился у местного воеводы зачислить его в сторожа и палачи 9.
Число коренных «иноземцев» Сибири, инкорпорированных в государственные структуры, на протяжении всего колонизационного процесса, особенно в конце XVI – первой половине XVII в., возрастало. Однако не следует преувеличивать масштабы этого явления. В связи с постепенной нормализацией внутриполитической обстановки, приведшей к стабилизации численности сибирских гарнизонов, простой и понятный путь внедрения в государственные структуры для аборигенов края перекрывался. На «свободные» места служилые люди пытались поверстать своих сыновей и племянников. Последующие поколения коренных жителей Сибири, успевших в свое время внедриться в служилую среду, в большинстве случаев обрусевали и утрачивали исконные этнические особенности.
Кроме того, карьерный рост аборигенов-новокрещенов зависел от психологических установок личности, прежде всего способности к адаптации и коммуникации, а также к быстрому освоению русского языка, к умению оценивать социальную и политическую обстановку в новых условиях. Эти «универсальные» условия успешного существования в любом сообществе были особенно сложны для сибирских аборигенов, людей иной культуры и иных ценностных ориентиров. Неудивительно, что легче всего следовать необходимым условиям было представителям родоплеменной верхушки. Они в силу сложившихся обстоятельств об- ладали более широким кругозором и имели значительный объем контактов. Малоприметному выходцу из среды автохтонного населения Сибири, чтобы добиться карьерного роста в служилой среде, необходимо было обладать поистине уникальными природными способностями. Талантливые личности среди аборигенов, несомненно, существовали, но далеко не для всех складывались необходимые условия для самореализации в новой ситуации, возникшей с появлением русских колонистов.
Большое значение для выходцев из аборигенной среды имело знакомство с российской действительностью. Поездки в Москву, которые выпадали по воле случая, приобретали огромное значение для накопления опыта и расширения мировоззрения. Длительные путешествия для коренных жителей Сибири из числа служилых людей в XVII в. были сопряжены с выполнением множества обязанностей, от чисто бытовых до охранных и представительских.
Менять образ жизни было сложно. Ни искомое государево жалованье, ни одежда русского покроя, ни крест на шее не могли примирить с новыми условиями ряд аборигенов, поступивших на службу русскому царю. Так обстояло дело с новокрещенным вогулом Семейком Лобанковым, который в 1613 г. был отчислен из стрельцов на том основании, что из Тюмени сбежал, а после поимки признался: «Побежал в Конду жить в вагуличах таем» [Миллер, 1941. C. 228]. Подобный же случай зафиксирован в 1604 г. на Верхотурье, откуда сбежал новокрещен Офоня Камаев. После побега он жил «у отца своего на Тагиле в юртах до осени и ел с вагуличи кобылятину, а крест в мошне на поясу держал, и женился на вагулке…». Не всем аборигенам было под силу в одночасье порвать с воспитанными веками традициями. Исконная культура крепко держала коренное население в своих границах, и немногим удавалось самостоятельно вырваться за ее пределы [Люцидарская, 2006. С. 9]. Чтобы избежать подобных эксцессов, русские власти старались назначать на ответственные должности аборигенов, с детства погруженных в служилую среду. Малолетние ясыри, по сути пленные рабы, попав после пленения в «хорошие руки», зачастую использовались в военных походах в качестве кашеваров и исполняли иные вспомогательные функции, постепенно приобщаясь к казачьему быту и установленным прави- лам поведения. Такие новообращенные казаки вызывали доверие и в дальнейшем мало отличались от основного русского казачьего сообщества.
Подводя итог вышесказанному, можно прийти к выводу, что новокрещенов из числа автохтонного населения Сибири, успешно прошедших адаптацию к государевой службе, насчитывалось немало. Занимая ответственные должности в воеводском управлении, представители аборигенного населения оказывали влияние на политический климат в пределах Сибири и на пограничных с ней территориях. Они выполняли посольские поручения, активно принимали участие в осуществлении диалога с «противниками» царской власти. Попав в составы гарнизонов сибирских городов, сибирские «иноземцы» выполняли все обязанности, выпадавшие на долю служилого люда. Новокрещены, задействованные в сфере услуг городского населения, создавали условия для функционирования системы жизнеобеспечения. В результате приспособления к русской культуре и естественной ассимиляции уже через одно-два поколения крещеные автохтоны, включенные в систему русской государственности, мало отличались от основной массы колонистов. Со временем, в XVIII в., состав сибирских гарнизонов претерпевал изменения, и служилые люди всеми способами старались внедрить своих наследников и родню в ряды служилого сословия, перекрывая привычный путь для выходцев из среды коренного населения Сибири. Однако второе поколение новокрещенов, обогащенное новым опытом и знаниями, наравне с русскими продолжало принимать участие во внутренней и внешней политике Российского государства.
THE INCORPORATION OF THE SIBERIAN ABORIGINAL INTO ADMINISTRATIVE STRUCTURES OF RUSSIA
Список литературы Инкорпорация сибирских аборигенов в государственные структуры России
- Бахрушин С. В. Научные труды. М.: Изд-во АН СССР, 1955. Т. 3, ч. 2: Избранные работы по истории Сибири XVI-XVII вв. История народов Сибири в XVI-XVII вв. 300 с.
- Бахрушин С. В. Научные труды. М.: Изд-во АН СССР, 1959. Т. 4: Очерки по истории Красноярского уезда в XVII в. Сибирь и Средняя Азия в XVI-XVII вв. 260 с.
- Дополнения к Актам историическим, собранным и изданным Археографической комиссией. СПб.: Тип. Э. Праца, 1848. Т. 3. 540 с.; 1853. Т. 5. 510 с.
- Емельянов Н. Ф. Население Среднего Приобья в феодальную эпоху (состав, занятия и повинности). Томск: Изд-во ТГУ, 1980. 252 с.
- Зуев А. С., Люцидарская А. А. Этнический состав сибирских служилых людей в конце XVI - начале XVIII века // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2010. Т. 9, вып. 1: История. С. 52-69.
- Каменецкий И. П. Русское население Кузнецкого уезда в XVII - начале XVIII в. (опыт жизнедеятельности в условиях фронтира Южной Сибири). Омск: ИП Долгов Р. Н., 2005. 340 с.
- Копылов А. Н. Русские на Енисее в XVII в. Земледелие, промышленность и торговые связи Енисейского уезда. Новосибирск: Наука, 1965. 298 с.
- Кузнецов-Красноярский И. И. Томский сын боярский Федор Протопопов (материалы для истории Сибири). Томск: Тип. Михайлова и Макушина, 1891. 43 с.
- Люцидарская А. А. Противостояние культур в ходе колонизации Сибири // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2006. Т. 5, вып. 3: Археология и этнография. С. 3-11.
- Люцидарская А. А. Старожилы Сибири: Историко-этнографические очерки. XVI - начало XVIII в. Новосибирск: Наука, 1992. 197 с.
- Люцидарская А. А., Гемуев И. Н. К истории семьи томичей Былиных // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск, 2001. Т. 7. С. 538-541.
- Материалы по истории русско-монгольских отношений. 1636-1654 гг.: Сб. док. М.: Наука, 1974. 352 с.
- Миллер Г. Ф. История Сибири. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941. Т. 639 с.; М.: Вост. лит., 2005. Т. 3. 796 с.
- Покровский Н. Н. Томск. 1648-1649 гг. Воеводская власть и земские миры. Новосибирск: Наука, 1989. 388 с.
- Русская историческая библиотека. СПб.: Тип. братьев Пантелеевых, 1875. Т. 2. 654 с.
- Русско-китайские отношения в XVII в.: Материалы и документы. М.: Наука, 1969. Т. 1: 1608-1683 гг. 564 с.
- Сборник документов по истории Бурятии. XVII в. / Сост. Г. Н. Румянцев, С. Б. Окунь. Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1960. Вып. 1. 450 с.
- Томск в XVII в.: Материалы для истории города. СПб.: Русская скоропечатня, 1911. 169 с.
- Уманский А. П. Телеуты и русские в XVII-XVIII вв. Новосибирск: Наука, 1980. 296 с.