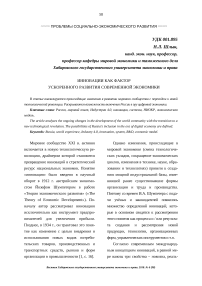Инновации как фактор ускоренного развития современной экономики
Автор: Шлык Н.Л.
Журнал: Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права @vestnik-ael
Рубрика: Проблемы социально-экономического развития
Статья в выпуске: 6, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются происходящие изменения в развитии мирового сообщества с переходом к новой технологической революции. Раскрываются возможности включения России в эру цифровой экономики.
Россия, мировой опыт, индустрия 4.0, инновация, система, ниокр, экономическая модель
Короткий адрес: https://sciup.org/143167032
IDR: 143167032
Текст научной статьи Инновации как фактор ускоренного развития современной экономики
Мировое сообщество XXI в. активно включается в новую технологическую революцию, драйвером которой становится превращение инноваций в стратегический ресурс национальных экономик. Понятие «инновация» было введено в научный оборот в 1912 г. австрийским экономистом Йозефом Шумпетером в работе «Теория экономического развития» («The Theory of Economic Development»). Поначалу автор рассматривал инновацию исключительно как инструмент предпринимателей для увеличения прибыли. Позднее, в 1934 г., он трактовал это понятие как изменение с целью внедрения и использования новых видов потребительских товаров, производственных и транспортных средств, рынков и форм организации в промышленности [1, с. 16].
Однако изменения, происходящие в мировой экономике (смена технологических укладов, сокращение экономических циклов, изменения в технике, науке, образовании и технологиях) привели к созданию мощной индустриальной базы, изменившей ранее существовавшие формы организации и труда и производства. Поэтому со времен И.А. Шумпетера с подачи учёных и законодателей появилось множество определений инноваций, которые в основном сводятся к рассмотрению этого понятия как процесса и / или результата создания и рассмотрения новой продукции, технологии, организационных форм, управленческих инструментов и т.п.
Согласно современным международным концепциям инноваций, в равной мере важны три свойства – новизна, реаль- ность внедрения и экономическая обоснованность. Под экономической обоснованностью понимается коммерциализация как способность формировать новый товарный рынок или рынок услуг с целью получения прибыли производителем (инвестором) или иных выгод, в том числе нематериального характера [1, с. 17]. Только совокупность отмеченных трёх свойств позволяет говорить об инновациях как эффективном инструменте развития экономики. По мнению бывшего директора по исследованиям и разработкам компании 3М доктора Д. Николсона, «исследование – это преобразование денег в знания, а инновации – это преобразование знаний в деньги» [2, с. 69]. Такая упрощённая формулировка цепочки создания инноваций, которая начинается с получения новых знаний и заканчивается появлением нового продукта, подтверждает особое значение коммерческой отдачи от результатов реализации инновационной деятельности. Современный этап мировой экономики характеризуется наличием ряда факторов, способствующих распространению инноваций в её развитие. В числе таких факторов целесообразно выделить следующие: повышение значимости инвестиций в материальном секторе мировой экономики, инновационная деятельность ТНК, смена драйверов экономического роста в условиях четвёртой промышленной революции; необходимость более эффективного участия в МРТ в результате внедрения инноваций в деятельность предприятий. Остановимся на двух послед- них факторах более подробно.
Фактор, касающийся смены драйверов экономического роста в условиях четвёртой промышленной революции, предназначен для обозначения процесса коренного преобразования глобальных цепочек создания стоимости. В условиях четвёртой промышленной революции виртуальные и физические системы гибко взаимодействуют между собой на глобальном уровне, а так как все большая часть жизненного цикла продукции на пред-производственной стадии (разработка, тестирование) сдвигается в виртуальную сферу, то ускоряются сроки внедрения новой продукции. Первые компании, вступившие на путь «цифровизации», показывают сокращение времени доставки продукции, адаптированной под нужды заказчика, на 50 % [3, с. 11].
Так называемая «Индустрия 4.0» подразумевает повышение значения цифровой экономики, прежде всего по таким направлениям, как искусственный интеллект, распределительные реестры, робототехника, квантовые вычисления, развитие информационно-компьютерной техники и вычислительной инфраструктуры. Процессы такого рода называют также информационной (или цифровой) революцией, под которой понимают современную систему телекоммуникаций, основанную на электронных технологиях. По мнению К. Шваба, основателя и бессменного президента Всемирного экономического форума в Давосе с 1971 г., фундаментальным отличием четвёртой промышленной революции от предыдущих является то, что новейшие технологии и инновации распространяются значительно быстрее и масштабнее, чем когда-либо прежде [3, с. 12].
По данным за 2015 г., лидерство в сфере развития цифровых технологий принадлежит США, где доля цифровой экономики составляет 10,9 % ВВП. Второе место принадлежит Китаю (10 % ВВП). В российской экономике эта доля составляет 3,9 % ВВП. Тем не менее, по данным консалтинговой компании «McK-insey», Россия может увеличить вклад этого сегмента в экономику до 8–10 % ВВП (с 3,2 трлн в 2015 г. до 9,6 трлн руб. в 2025 г.) [4, с. 1225]. Однако достижение данных результатов станет возможным лишь при условии активного создания и внедрения в сферы жизни общества достижений научно-технического прогресса.
Что касается следующего фактора – необходимости более эффективного участия в МРТ, то, как показывает мировой опыт, каждый новый виток углубления разделения труда порождается макроэкономически значимыми технологическими инновациями и изобретениями. Отмечается и обратная закономерность: каждый новый виток углубления разделения труда, основанный на новом ядре технологического уклада, приводит к новым техническим инновациям. Для сегодняшнего этапа развития МРТ характерно максимальное дробление производственных процессов и рост их организационной сложности. Это подразумевает выполне- ние странами подотчётных им этапов организационного процесса на высшем уровне. При этом, чем крупнее национальная экономика, тем острее стоит проблема участия в международном разделении труда, поскольку без углубления специализации функций она будет не в состоянии поддерживать свою конкурентоспособность на мировом рынке. Для России данный аспект имеет особое значение, учитывая сохраняющуюся сырьевую модель её экономики и сложившийся характер участия в современном МРТ. Однако есть опасения по поводу возможности включения экономики страны в новую технологическую революцию в ближайшей перспективе [5, с. 6]. Препятствием для такого включения является наличие ряда проблем, накопившихся в экономике страны за последние два десятилетия. Прежде всего, это нарастающее отставание от промышленно развитых стран в научно-технологическом и инновационном развитии, а также в объёмах товарного производства высокотехнологичных отраслей реального сектора экономики. Следствием этого отставания является высокая степень зависимости российской экономики от возможностей импорта высокотехнологичной продукции зарубежных компаний и возможностей экспорта энергоносителей (что ещё более обостряется с продолжающимися санкциями западных государств). Как отмечается в докладе Национального центра стратегических разработок (ЦСР), в экономике страны в последнее десятилетие преобладают тенденции, не отвечающие новым вызовам четвёртой технологической революции. В экспорте России происходит смещение структуры экспорта в сторону продуктов низкой сложности, а структура производства стала менее высокотехнологичной, чем была ранее. В результате Россия отстаёт не только от высокоразвитых стран, но и от стран БРИКС, особенно Китая, где объём экспорта высокотехнологичной продукции более чем в 57 раз превышает аналогичный показатель России [5, c. 7].
Наибольшую долю (44 %) в глобальном экспорте высокотехнологичных изделий занимают США, ЕС и Япония; 26 % приходится на Китай (рост по сравнению с началом 90-х гг. составил более чем в 130 раз); более 6 % занимает Республика Корея; 13,5 % приходится на пять ведущих поставщиков из АСЕАН (Сингапур, Малайзия, Таиланд, Вьетнам, Филиппины). В итоге указанные страны Тихоокеанской Азии обеспечивают больший вклад в мировой высокотехнологичный экспорт, чем указанная триада. На Россию, даже с учётом экспорта вооружений, приходится не более 0,7–0,8 % от общего итога по высокотехнологичному экспорту [6, с. 12].
Одной из причин создавшегося положения в России являются низкие затраты на НИОКР и их структура. По данным за 2016 г., в США расходы на НИОКР составляют 2,74 % от ВВП (465 млрд дол. США), в Японии – 3,14 % (149 млрд дол. США), в Китае – 2,11 % (411 млрд дол. США), в России – 1,097 % (37,17 млрд дол. США). В структуре затрат на
НИОКР в России около 70 % приходится на вложения из госбюджета, в то время как в экономиках перечисленных стран доля частных вложений в общих затратах на НИОКР составляет от 70 % до 76 %, а в России менее 30 %. Увеличение инвестиций частного сектора возможно в рамках реализации государственно-частного партнёрства, в чём убеждает опыт развитых стран.
В России данное направление не получило должного развития, что находит отражение и в динамике инновационных предприятий. По данным организации экономического сотрудничества и развития (OECD), в 2017 г. в Швейцарии доля инновационных предприятий в общем количестве составляет 73,2 %, Германии – 62,8 %, Китае – 39,7 %, в России только 8,8 % [7]. Причём значительная часть инновационного бизнеса в развитых странах представлена малым бизнесом – более 60 % от общего количества малых и средних предприятий, а в России только 4,8 %. О недостаточном инновационном развитии свидетельствует и глобальный инновационный индекс России – 45-е место в 2017 г. (по сравнению с 2015 г. страна поднялась на три позиции, что может свидетельствовать о наметившихся положительных сдвигах).
Глобальный инновационный индекс (рассчитывается на базе 80 переменных) позволяет оценить сильные и слабые стороны российской инновационной системы. Среди сильных (конкурентных) преимуществ страны выделяются: занятость женщин с высшим образованием (по данном показателя, РФ занимает 2-е место), количество выпускников вузов по научным и инженерным специальностям (3-е место), соотношение численности учеников и преподавателей в школах (14-е место), численность работников в сфере наукоёмких услуг (15-е место), валовой коэффициент охвата высшим образованием (17-е место).
По размеру внутреннего рынка Россия занимает 6-е место, а по показателям его развития только 60-е. О разрыве между потенциальными возможностями страны и их реализацией свидетельствуют следующие данные: если по созданию знаний Россия занимает 22-е место, то по влиянию знаний – 111-е. По таким показателям, как качество политической среды и государственного управления, а также по инвестициям и сделкам с венчурным капиталом Россия находится либо в конце первой сотни, либо за ее пределами [8].
Для подъёма инновационной деятельности России Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) в своём исследовании выявила ряд проблем, характерных для стран с переходной экономикой. Прежде всего, была выделена слабая активность бизнес-сообще-ства в формировании и реализации инновационной политики, включая финансирование проектов; слабое развитие частногосударственного партнёрства; оторванность научных учреждений от производства и низкая кооперация между НИИ и промышленностью. Сюда же следует добавить неразвитость инфраструктуры и нарастающую кадровую проблему. По статистическим данным, в 2016–2017 гг. было осуществлено 108 проектов государственно-частным партнёрством, но ни один из этих проектов не был направлен на улучшение промышленной инфраструктуры, полностью отсутствовали проекты по развитию инновационных производств. Что касается кадровой проблемы, то здесь продолжается отток креативных молодых специалистов. По данным ЮНЕСКО, в России за 2007–2015 гг. количество учёных сократилось с 7,3 % до 5,7 %. Связано это, прежде всего, с продолжающимся оттоком молодых высокообразованных специалистов [9, с. 30]. В немалой степени этому способствует проводимая реформа в науке и образовании, которая подталкивает молодых специалистов к выезду из страны, так как они не видят возможности применения полученных знаний и дальнейшего карьерного роста. Особенно остро данная проблема ощущается в отдалённых от центра регионах Дальнего Востока и Сибири. Определённые надежды на решение перечисленных проблем возлагались на принятую в декабре 2011 г. Стратегию инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г. (Стратегия – 2020). В рамках реализации этой программы планировалось увеличить долю Россию на мировых высокотехнологичных рынках до 2 %. Это в 8 раз меньше показателя Китая и в 6 раз меньше уровня США в 2008 году. С учётом надвигающейся эры цифровизации в России 28 июля 2017 г. № 1632-р Правительством РФ была утверждена программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (Программа ЦЭ). В основу этой программы были положены те же самые принципы, на которых базировались все предыдущие стратегии НТР России, но цели и задачи ни одной из которых так и не были достигнуты [5, с. 7]. Подобный результат был ожидаем, так как все программы разрабатывались на основе устаревшей модели развития экономики, не соответствующей прогрессивным тенденциям развития мировой экономики.
В мировом сообществе уже наработан богатый опыт (в том числе в Китае) перехода на постиндустриальную модель развития, в основе которой заложено активное развитие национальных инновационных систем. Этот опыт необходимо изучать, понимая при этом важность поиска собственных путей и подходов.
Россия является комплексной и самодостаточной экономикой для самостоятельного (внутринационального) развития технологий нового шестого уклада, однако для этого необходимо сменить модель экономического роста [10, с. 9]. Для результативности разработки и обсуждения новой модели важно привлечь академический сектор страны и представителей бизнес-сообщества.
Список литературы Инновации как фактор ускоренного развития современной экономики
- Тетерятников К. С. Модернизация экономики России: новый подход/К. С. Тетерятников//Международная экономика. 2017. № 9. С. 7-29.
- Романов А. А. Смена парадигмы разработки инновационной продукции : от разрозненных НИОКР к цифровым проектам полного жизненного цикла / А. А. Романов // Ракетно-комическое приборостроение и информационные системы. 2017. № 2. С. 68-84 // rucont.ru/read//2382241 (дата обращения 11.05.2018).
- Захаров А. Н. Проблемы реиндустриализации мировой экономики/А. Н. Захаров//Российский внешнеэкономический вестник. 2017. № 8. С. 3-14.
- Масленников М. И. Технологические инновации и их влияние на экономику/М. И. Масленников//Экономика региона 2017. № 3. С. 1221-1235.
- Бетелин В. О новой технологической революции и готовности к ней экономики России/В. Бетелин//Экономист. 2018. № 2. С. 3-9.
- Спартак А. Н. Контуры структурных трансформаций в международной торговле/А. Н. Спартак//Российский внешнеэкономический вестник. 2018. № 3. С. 7-23.
- Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) https.//data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm (дата обращения 11.05.2018).
- http://qtmarket.ru/ratings/global-index-of-coqnitive-skills-and-educational-attainment/info (дата обращения 12.09.2017).
- Шлык Н. Л. Трудовая миграция как фактор национальной экономической безопасности (региональный аспект)/Н. Л. Шлык//Управление инвестициями и инновациями. 2018. № 2. С. 128-131.
- Авдокушин Е. Ф. Радикальные инновации в России и роль государственно-частного партнёрства/Е. Ф. Авдокушин//Вопросы новой экономики. 2016. № 4 (40). С. 4-15.