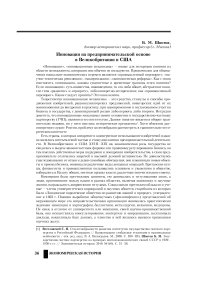Инновации на предпринимательской основе в Великобритании и США
Автор: Шпотов Борис Михайлович
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: Дискуссионный клуб
Статья в выпуске: 1 (12), 2011 года.
Бесплатный доступ
В рамках заседания Научного совета РАН по проблемам российской и мировой экономической истории в г. Звенигороде 4-6 февраля 2011 г. состоялся круглый стол на тему «Инновационные механизмы в технологическом и экономическом развитии России в XVIII-ХХ вв.»
Инновации, модернизация, экономическая история, рынок
Короткий адрес: https://sciup.org/14723570
IDR: 14723570
Текст краткого сообщения Инновации на предпринимательской основе в Великобритании и США
«Инновации», «инновационные механизмы» — новые для историков понятия из области менеджмента, которыми они обычно не пользуются. Привычными для обозначения социально-экономических перемен являются «промышленный переворот», «научно-техническая революция», «модернизация», «экономическая реформа». Как с ними соотносить «инновации», каковы сущностные и временные границы этого понятия? Если «инновации» суть новшества, нововведения, то это либо общее, абстрактное понятие типа «развитие» и «прогресс», либо конкретно-историческое, как «промышленный переворот». Какое следует принять? Это пока неясно.
Теоретически инновационные механизмы — это средства, стимулы и способы продвижения изобретений, рационализаторских предложений, новаторских идей от их возникновения до внедрения в практику, при одновременном и согласованном участии бизнеса и государства, с доминирующей ролью либо первого, либо второго. Нетрудно заметить, что инновационные механизмы имеют отношение к государственно-частному партнерству (ГЧП), являются его институтом. Данное понятие введено в оборот сравнительно недавно, но у него имелись исторические прецеденты1. Хотя объектом рассмотрения служит Россия, проблему целесообразно рассмотреть в сравнительно-историческом контексте.
Есть страны, в которых внедрение и коммерческое использование изобретений издавна являлись неотъемлемой частью и стимулом именно предпринимательской деятельности. В Великобритании и США XVIII—XIX вв. экономическая роль государства не сводилась к выдаче заказов частным фирмам или правовому регулированию бизнеса, но там имелись действенные меры поддержки и поощрения изобретательства, а сами предприниматели отличались энергией и высокой деловой активностью. Не довольствуясь унаследованными от отцов и дедов способами обогащения, они изыскивали новые объекты и приемы бизнеса, совмещали различные виды доходных операций. Британские купцы, финансисты и промышленники пользовались влиянием и уважением в обществе, избирались в Палату общин, местные органы власти, различные попечительские советы.
Коммерция была престижным занятием, ею занималась и титулованная знать, а люди, приносившие пользу нации в разных областях, включая экономику и научные знания, награждались дворянскими титулами. Социальным престижем обладали и ученые — члены университетских корпораций и научных обществ, старейшим из которых было «Лондонское королевское общество по развитию знаний о природе», утвержденное в 1662 г. Помимо выработки общенаучных («философских») представлений об окружающем мире эта неправительственная организация занималась практическими задачами навигации и картографии, баллистики, металлургии, механики, медицины. Не имея, в отличие от университета или компании, своей научно-производственной базы, она осуществляла консультирование, экспертизу и координацию, заслушивала доклады, накапливала базу данных, а членство в ней являлось высшим признанием научных заслуг.
Права изобретателей ограждались государственными патентами, которые приносили некоторый доход в течение определенного срока, но патентовладелец мог продать свое право предпринимателю, не являвшемуся изобретателем, или использовать его как «вступительный взнос», чтобы войти в правление фирмы, ибо владельцы капитала редко обладали техническими познаниями. Патенты служили своего рода товаром, за которым охотились, они становились предметом споров и судебных тяжб, но их так или иначе имели все, кто внедрял технико-технологические новинки — паровые машины, текстильные станки, пудлинговые печи для передела чугуна, паровозы и др.
Возможность изобрести нечто полезное, т. е. применимое на практике (useful), получить патент «на предъявителя» и внедрить изобретение с помощью заинтересованного инвестора и была инновационным механизмом, или инновационным поведением, характерным для Англии и Западной Европы XVIII—XIX вв. Изобретатель и бизнесмен заключали союз, а нередко и выступали в одном лице. Ричард Аркрайт, цирюльник по профессии, разбогател, присвоив чужое изобретение — механический прядильный станок, который запатентовал на свое имя. Он стал совладельцем нескольких фабрик, прославился как основатель британской текстильной промышленности, получил должность шерифа графства Дерби и «рыцарский» титул. Шотландский изобретатель с мировым именем Джеймс Уатт, создавший универсальную паровую машину двойного действия (1782) и сделавший ряд открытий в области физики тепловых явлений, прошел путь от слесаря-механика в лаборатории Университета Глазго, где сотрудничал с учеными, до компаньона М. Болтона, фабриканта, наладившего выпуск и продажу паровых машин его конструкции. Уатт был избран в члены Эдинбургского и Лондонского королевских обществ, затем Парижской академии наук.
В период промышленной революции британская экономика была высококонкурентной и инновационной. Инновационность проявлялась не только в крупных техникотехнологических достижениях, но и в ходе совершенствования и рационализации достигнутого. К благоприятствующим факторам относились концентрация капиталов, ремесел, мануфактур и рабочей силы в эпицентрах промышленного переворота, государственная система защиты национальной промышленности — временный запрет вывоза из страны машин, механизмов и их чертежей, поощрение ввоза сырья и вывоза готовых товаров. Это также превращение Лондона в мировой торговый и финансовый центр, проложенные в XVIII в. грунтовые дороги и каналы, связавшие основные города при сравнительно небольших расстояниях между ними, высокий уровень грамотности населения, университеты мирового уровня, успехи естественных наук.
Впрочем, в последние десятилетия XIX в. динамика британского индустриального развития и соответственно инновационности пошла на убыль, затормозилось даже обновление основного капитала в промышленности в связи с оттоком денежных средств в традиционные для «владычицы морей», но прибыльные отрасли. Это судостроение, международные морские перевозки, особенно чартерные, в которых доминировал британский флот, финансовые и банковские операции, инвестиции в колониях, доминионах и странах с растущей экономикой, включая Латинскую Америку и США.
Благоприятная для развития частного предпринимательства среда сложилась и в Соединенных Штатах — стране с иным по сравнению со Старым Светом путем социально-экономического развития. У истоков американской истории (XVII в.) — положение переселенческих колоний под управлением британской короны, а после завоевания в 1775—1783 гг. независимости США стали объектом переселения из всей Европы и других стран. К концу XIX в. численность иммигрантов измерялась миллионами в год. Хотя целью подавляющего большинства приезжих было получение участка земли под семейную ферму, в стране на протяжении того столетия бурно развивались внутренний рынок, промышленность и росло значение денежных заработков, а сами иммигранты везли в Америку знания и умения, желание трудиться и преуспеть.
Разработке основ политики развития национальной промышленности способствовали опередившие свое время идеи Александра Гамильтона — первого в США министра (секретаря) финансов в 1789—1795 гг. В 1791 г. он выступил в Конгрессе с развернутым «Докладом о мануфактурах». Хотя 90 % населения страны относилось к фермерам, на примере экономического могущества Англии он доказывал, что одним сельским хозяйством и экспортом продуктов питания в Европу в обмен на промышленные товары Америка не создаст надежную материальную основу для независимого развития. Процветающая нация должна опираться на собственные природные ресурсы, вести геологическую разведку, развивать промышленность и дорожную сеть, строить и расширять города, которые станут рынком сбыта для фермерской продукции.
Гамильтон предлагал ввести высокие ввозные пошлины на товары, аналогичные произведенным в США, запретить вывоз сырья, которое нужно использовать на внутреннем рынке, заимствовать технические достижения европейских стран и поощрять собственные изобретения и открытия. В предшествующих проектах-докладах он обосновал необходимость создания Центрального банка США (взяв за образец Английский) и Монетного двора. Его заместитель Т. Кокс учредил в Филадельфии «Общество поощрения полезных (useful) мануфактур» (1791 г.), которое премировало изобретателей2. Еще в колониальный период (1743 г.) по инициативе выдающегося американского просветителя Бенджамина Франклина было учреждено Американское философское (научное) общество, цель которого — поощрение «любых философских экспериментов, которые проливают свет на природу вещей, усиливают власть человека над материей и приумножают удобства и удовольствия жизни». Избрание в члены общества являлось, как и в Англии, признанием выдающихся достижений в этой области.
Гамильтон, изучивший экономические теории своего времени и мысливший сугубо прагматически, выдвинул программу долговременного комплексного развития США, но в острой политической борьбе, которой сопровождалось становление заокеанской республики, он проиграл и лишился влияния, а затем и жизни. Однако его идеи были усвоены следующими поколениями государственных деятелей, особенно достигших высшей власти и понимавших общенациональные задачи. В США реальную роль играли не речи политиков, а повседневная практика, experience. Не государственное мышление у каждого бизнесмена, а права личности, частной собственности, индивидуальные эгоистические интересы руководили действиями предпринимателей — в соответствии с теорией Адама Смита о достижении общественного блага.
Молодой английский механик Сэмюел Слейтер, покинувший берега Альбиона, где ему не «светила» быстрая карьера, прибыл в 1789 г. в штат Род-Айленд, где воспроизвел по памяти конструкцию запатентованного в Англии и запрещенного к вывозу хлопкопрядильного станка Р. Аркрайта. Он предложил эту машину американскому торговцу М. Брауну в обход английского закона. Уже через год была выстроена первая в США фабрика с водяным колесом, дававшая пряжу, а Слейтер впоследствии стал богачом и совладельцем группы предприятий, снискав репутацию «отца» американской текстильной промышленности, с которой начался промышленный переворот.
Развитие текстильного производства в США сопровождалось рядом важных усовершенствований, т. е. инноваций, опередивших достижения Англии. Так, английский механический ткацкий станок Э. Картрайта, не пользовавшийся популярностью на родине изобретателя из-за частых поломок и остановок, был усовершенствован американским механиком П. Муди и успешно внедрен в США при поддержке фабриканта Ф. К. Лоуэлла. Это привело к интеграции после 1814 г. «под одной крышей» машинного прядения и ткачества, что увеличило размеры фабрик, позволило «выпрямить»
процесс и экономить на трансакционных издержках, неизбежных при выполнении этих операций на разных предприятиях, нередко принадлежавших разным владельцам. Интеграция и синхронизация различных производственных звеньев достигалась и в черной металлургии — на заводах-комбинатах США, что объяснялось возникшим в 1830-е гг. спросом на рельсы для железных дорог и на локомотивы. От дорогостоящего импорта их из Англии американские компании быстро отказались, да и удовлетворить потребности железнодорожного строительства в США не смогла бы вся промышленность Соединенного Королевства.
Что касается паровой тяги, то после успешных испытаний в Англии паровоза конструкции Джорджа Стефенсона «Ракета» в 1829 гг. он в следующем году появился за океаном, а к 1860 г. США вышли на первое место в мире по совокупной длине железных дорог — 30,6 тыс. американских миль, или 48 тыс. км3.
Великобритания и Соединенные Штаты имели много общего в функционировании инновационных механизмов по схеме «изобретение — патент — инвестиции — внедрение — участие в прибылях». Однако США в отличие от Великобритании представляли собой огромное пространство не только в географическом, но и в экономическом смысле, как поле для самого широкого развития бизнеса, способного удовлетворить платежеспособный спрос быстро растущего населения на различные товары и услуги. При этом у американцев проявились такие черты национального характера, как тяга к грамотности и образованию (в первой половине XIX в. стали создаваться бесплатные средние школы, public schools, которые содержались за счет штатов), практицизм, бережливость. Дефицит свободной рабочей силы, повышавший ее стоимость, создал предпосылку для использования трудосберегающих машин и технологий на производстве и в быту. Принцип «сделай сам» заключался в том, чтобы не просто обходиться без прислуги, а следовать техническому прогрессу. Для рядового американца обзавестись полезной и доступной технической новинкой значило не только помочь себе, но и прослыть передовым человеком, выделиться в глазах окружающих.
Экономия времени, труда и денег как потребительские требования к товару привели к созданию таких невиданных ранее вещей, как доступные для фермеров механические косилки на конной тяге в середине XIX в., швейные и пишущие машинки, велосипеды, телефон во второй половине XIX в., автомобили, бытовые электроприборы, радиоприемники в начале XX в. и т. д. Производили их на американском сырье и материалах и по патентованным американским технологиям. Срабатывал известный феномен рынка: потребители не знали и не представляли себе конкретный товар с новыми свойствами, но если он отвечал их ожиданиям, создавался спрос. В США наиболее полно осуществлялся принцип выгоды от инноваций, рассчитанных на массового потребителя. Конкурентная борьба ускоряла внедрение. К началу XX столетия эта страна опередила остальной мир по объему и быстроте внедрения НИОКР — как своих, так и поступивших извне различными путями. Основами этого стали:
-
— формальный характер процедуры патентования изобретений по праву заявителя (федеральное Патентное бюро учреждено в конце XVIII в.);
-
— регистрационная, а не разрешительная процедура легализации бизнеса;
-
— создание производственно-технических возможностей для реализации «прорывных» технологий, определявших технический и экономический прогресс;
-
— потребительский спрос на технические новинки, сберегающие труд, время и деньги;
-
— легальная купля-продажа патентов и производственных секретов (know-how);
-
— развитие НИОКР не только в отделах компаний (испытательные лаборатории и др.), но и в самостоятельных проектно-конструкторских фирмах, работавших на заказ;
-
— готовность изобретателей сотрудничать с бизнесом и войти в правление новой компании, внося не денежный капитал, а знания и умения (А. Белл, Т. Эдисон, Г. Форд и др.).
Помимо реализации изобретений на частной основе в начале XIX в. в Соединенных Штатах появился госзаказ в форме подряда на экономичное производство стандартных ружей для армии. Он дал толчок развитию одной из важнейших технологий, которая стала материальной основой индустриального капитализма и сохранилась до наших дней. Это массовое производство, стандартизация и сборка как эффективный метод выпуска сложного продукта, состоявшего из деталей и частей. Метод, названный в Европе американским, был порождением промышленной революции, но начался не с предложения изобретателя предпринимателю, как это было, например, с механической прялкой, а с правительственного заказа. Стандартизация еще не была известна — плуги, топоры и лопаты делали в сельских кузницах, ремесленники сами изготовляли для себя инструмент, шили одежду и обувь портные и сапожники, но заказ крупной партии ружей привел к инновации «прорывного» значения.
Попытки выпускать абсолютно одинаковые изделия и их детали по заданным шаблонам и размерам долго не удавались из-за отсутствия станков с режущими устройствами не только для дерева, но и для металла, но когда к середине XIX столетия они были созданы, в США отправились изучать опыт даже высококвалифицированные английские оружейники. Важно отметить, что металлорежущие станки были американского происхождения. Полный разрыв с традицией поштучного производства обусловил экономический эффект от ускорения и снижения себестоимости сборки за счет высочайшей точности изготовления и взаимозаменяемости деталей4. Результатом стало создание предпосылок для развития целого ряда новых и перспективных отраслей.
Например, автомобилестроение невозможно без поточно-массового (конвейерного) производства, а оно не осуществимо без специальных станков, соответствующей планировки цехов, непрерывной подачи сырья и материалов и выполнения ряда других условий. Еще один результат этой инновации — изменение первоначального назначения «самодвижуще-гося экипажа», казавшегося вначале всего лишь забавой для богачей. Отсутствие таких станков долго удерживало автомобилестроение в Европе на уровне мелкосерийного производства, а в России до Первой мировой войны стимулировало импорт западноевропейских марок, рассчитанных на состоятельных покупателей. Между тем выпуск автомобилей заложил одну из основ нового этапа технического прогресса уже в начале XX в. Помимо станкостроения он стимулировал выпуск особых сортов сталей и цветных металлов, прочного стекла, резины, лаков и красок, пластмасс, бензина и масел, асфальта и дорожных покрытий. Массовый выпуск каждого из этих продуктов требовал своих технологических решений. Текстильное производство, высоко ценимое и доведенное до совершенства в дореволюционной России, утратило то значение, которое имело в середине XIX в. Его влияние на развитие смежных и вспомогательных производств было более узким, а станкостроение не выходило за рамки обслуживания этой отрасли5.
Специализацией на превращении изобретений в продукцию массового спроса — часто посредством их адаптации для пользователей — Америка прославилась задолго до появления «Кремниевой долины». Примером может служить лаборатория Томаса
Эдисона в Менло-Парке, штат Нью-Джерси (1876—1931), где трансформация идей в готовые продукты, а также придание им статуса «спутников жизни» простого человека были буквально поставлены на поток. Сам изобретатель-самоучка получил в течение жизни более тысячи патентов. Не только лампа накаливания, но и фонограф, преобразованный впоследствии в граммофон, кинопроектор и кинокамера, многоканальный телеграф, телефонная трубка с мембраной на прокладке из угольного порошка и многое другое скрасили повседневную жизнь миллионов. Возможность прослушать знаменитых исполнителей в грамзаписи, не выходя из дома, увидеть в кино за небольшие деньги то, что не покажут даже в самом лучшем театре, шить на дому с помощью машинки Зингера, путешествовать в недорогом автомобиле Форда, бриться безопасным станком Кинга Жиллетта, фотографировать камерой «Кодак» не сближала бедных с богатыми по доходам, но расширяла доступ масс к благам цивилизации.
Еще один результат внедрения инновационных технологий — изменение традиционной культуры потребления. Стандартизация позволяла не только осуществить массовое производство и сбыт, но и во многих случаях отказаться от такой медленной и дорогостоящей операции, как ремонт: экономнее для производителя и потребителя стала замена дефектных деталей. Кроме того, в США появилось немало изделий одноразового пользования. И конечно, стандартизация привела к изготовлению готового платья и обуви, строительных и других расходных материалов и инструментов, к расфасовке пищевой продукции в стандартную тару, стимулировала продажу готовых лекарственных препаратов и т. д. Это привело к развитию новых форм торговли — по заказам (с использованием каталогов) и по типу супермаркетов.
Правительству и конгрессу пришлось наводить порядок на рынке продуктов питания, особенно скоропортящихся, и на рынке патентованных лекарств путем проверки их лечебных свойств. Но коммерциализация изобретений — осознанный выбор американских предпринимателей и потребителей в пользу инноваций на рыночной основе. «Американская промышленность работает главным образом на потребителя, и в этом залог ее мощи», — писал в конце 1928 г. из Нью-Йорка начальник Автотреста М. Л. Сорокин Г. К. Орджоникидзе. «Массовые автомобили, массовые радиоприемники», баснословное развитие 5- и 10-центовых магазинчиков Вулворта (где можно было потратить мелочь. — Б. Ш. ), популяризация аэроплана как нового средства передвижения — прогулки по воздуху за небольшую плату — не прошли мимо его внимания. «Америка скоро пересядет с автомобиля на самолет». Один «красный директор» убеждал другого развернуть в СССР массовый выпуск автомобилей, велосипедов, фотоаппаратов Kodak, наручных часов (часы от компании Ingersoll, восторгался Сорокин, продаются в США за 1—1,5 доллара)6. Но это так и осталось на бумаге. В СССР производство и торговля были разделены и подчинялись разным ведомствам, а народнохозяйственные приоритеты заключались в обеспечении интересов государства, включая развитие оборонного комплекса.
Станкостроение, стандартизация и сборка, перешедшие из XIX в XX в., отставали в России вплоть до начала «сталинской» индустриализации, опиравшейся на зарубежную техническую помощь. Одно только это отставание, усугублявшееся войнами, революциями и другими потрясениями, приостановило инновационный процесс в отечественной промышленности, если вести отсчет с начала промышленного применения данных технологий в США, лет на 80.
Вместе с тем Америку вовсе не следует считать счастливым исключением в плане инновационности. Феномен торможения преобразований, различные уравновешиваю- щие и противодействующие силы — закономерное явление на самых разных уровнях, включая частные компании. В США в 1970—1980-е гг. отмечались признаки торможения в мире корпораций, утрата гибкости и способности к инновациям, следование проторенными путями и т. п. Спохватились там, правда, быстро. Принимались меры по реструктуризации компаний, замене трехуровневых пирамидальных схем их построения более плоскими, а классическая концепция фирмы А. Д. Чандлера, адекватная для более раннего времени, уступала место новым представлениям о современном бизнесе7. Синонимом инновационной стала «предпринимательская» фирма. Вырабатывались и практические рекомендации для менеджеров, действующих в условиях перемен8.
Нет необходимости доказывать наличие факторов, тормозивших инновации в России в различные периоды ее истории. О них много сказано и написано. Так, за последние 20—30 лет минувшего столетия страны — экономические лидеры вошли в постиндустриальное общество, а СССР остался на индустриальной стадии, хотя и достиг ее вершины9. Технико-экономическое развитие России следует, конечно, оценивать с учетом как многочисленных заимствований извне, так и утечки национальных изобретений (часто — вместе с авторами) за рубеж. Инновационность, однако, зависит не столько от количества национальных изобретений, сколько от быстроты и эффективности их внедрения независимо от лиц и стран происхождения, разумеется, при наличии права на использование, и во многих случаях — от участия третьей организующей силы, например, государства в роли заказчика, контролера, соинвестора. В истории России можно зафиксировать немало изобретений как свидетельств интеллекта и творческой мысли, ну а внедрение? Пресловутые инновационные механизмы означают не что иное, как условия и факторы быстрого внедрения.
Наконец, заключительная ремарка. Лично я не сторонник чересчур широкого толкования инновационных механизмов за счет их поисков в непроизводственной сфере. Культурный фон — уровень грамотности и образованности, благосостояние населения, потребительский спрос на технические новинки, понимание их значения для качества жизни, — конечно, важен, реализовать плоды инноваций в неадекватной среде невозможно. Но важно установить и границы понятия. Иначе может произойти его полная нивелировка — ведь какие-то обновления самого разного свойства так или иначе происходят в каждой стране. Первоначальный смысл инновационности не должен быть утрачен.
Список литературы Инновации на предпринимательской основе в Великобритании и США
- Веселовский С.Я. О целесообразности развития институтов государственно-частного партнерства в Российской Федерации//Приватизация: глобальные тенденции и национальные особенности/Отв. ред. акад. В.А. Виноградов. М., 2006. С. 830-854
- Шпотов Б.М. Государственно-частное партнерство на примерах внешнеэкономических связей СССР в 1920 -1930-е гг.//Экономическая история. № 8, 2010/1. С. 31-36.
- Hownshell D.A. From the American System to Mass Production, 1800-1932. Baltimore, 1985.
- Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 85. Оп. 27. Д. 471. Л. 7-15.
- Шпотов Б.М. Теория эволюции фирмы Альфреда Д. Чандлера и пути развития промышленности//Экономическая история. Ежегодник. 2009. М., 2009. С. 40-48.
- Коттер Дж. П. Впереди перемен. Пер. с англ. М., 2003
- Сенге П., Клейнер А., Робертс Ш. и др. Танец перемен: новые проблемы самообучающихся организаций. Пер. с англ. М., 2003.
- Бокарев Ю.П. СССР и становление постиндустриального общества на Западе, 1970-1980-е годы. М., 2007.