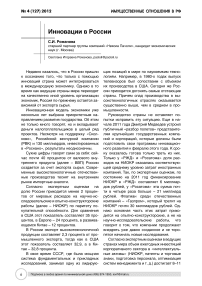Инновации в России
Автор: Романова Светлана Игоревна
Журнал: Имущественные отношения в Российской Федерации @iovrf
Рубрика: Вопросы имущественной политики
Статья в выпуске: 4 (127), 2012 года.
Бесплатный доступ
Автором анализируется экономика России с точки зрения развития инноваций и сравнивается с со- стоянием экономики ведущих стран мира. Делается вывод: несмотря на то, что инновационная модель экономики уже несколько лет выбрана приоритетным направлением развития государства, экономически Россия по-прежнему остается зависимой от экспорта сырья. Автор полагает разу- мным отказаться от идеи охватить инновациями сразу все отрасли хозяйства, а последовательно проводить единую поэтапную политику в этом направлении.
Инновации, патент, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, ниокр, высокотехнологичный рынок, сырьевая зависимость
Короткий адрес: https://sciup.org/170152295
IDR: 170152295
Текст научной статьи Инновации в России
Недавно казалось, что в России пришли к осознанию того, что только с помощью инноваций страна может интегрироваться в международную экономику. Однако в то время как ведущие страны мира переходят на качественно иной уровень организации экономик, Россия по-прежнему остается зависимой от экспорта сырья.
Инновационная модель экономики уже несколько лет выбрана приоритетным направлением развития государства. Об этом не только много говорят, но и вкладывают деньги налогоплательщиков в целый ряд проектов. Несмотря на поддержку «Сколково», Российской венчурной компании (РВК) и 130 миллиардов, инвестированных в «Роснано», результаты неоднозначны.
Сухие цифры говорят сами за себя: сейчас почти 40 процентов от валового внутреннего продукта (далее – ВВП) России создается за счет экспорта сырья. Современные высокотехнологичные отечественные производства теснят на внутреннем рынке импортные аналоги.
Согласно экспертным оценкам на долю России приходится менее 2 процентов от мировых расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (далее – НИОКР) по паритету покупательной способности. Для сравнения в США этот показатель составляет 35 процентов, в Европе – 24 процента, в развивающемся Китае – 12 процентов.
В России экспорт высокотехнологичной продукции составляет 2,3 процента от промышленного экспорта, тогда как в США этот показатель составляет 32,9, а в Китае – 32,8 процента.
В свое время СССР, где была мощная система фундаментальных и прикладных исследований, занимал одну из лидирую- щих позиций в мире по наукоемким технологиям. Например, в 1980-х годах выпуск телевизоров был сопоставим с объемом их производства в США. Сегодня же России приходится догонять самые отстающие страны. Причем спад производства в высокотехнологичных отраслях оказывается существенно выше, чем в среднем в промышленности.
Руководство страны не оставляет попытки исправить эту ситуацию. Еще в начале 2011 года Дмитрий Медведев устроил публичный «разбор полетов» представителям крупнейших государственных компаний и корпораций, которые должны были подготовить свои программы инновационного развития к февралю этого года. К сроку оказалась готова только треть из них. Только у «РЖД» и «Росатома» доля расходов на НИОКР оказалась соответствующей среднему уровню затрат иностранных компаний. Так, по экспертным оценкам, по состоянию на 2011 год финансирование НИОКР в «РЖД» составляет 6 миллиардов рублей, у «Росатома» эта сумма почти в четыре раза больше – 21 миллиард рублей. Флагман среди отечественных компаний – «Газпром», который тратит на НИОКР почти 30 миллиардов рублей. Однако основная часть этих затрат приходится на опытно-конструкторские, а не на научно-исследовательские работы, что говорит о том, что компании продолжают внедрять уже давно созданное и не торопятся начинать новые исследования.
Согласно экспертным оценкам в ведущих странах мира объем ежегодных инвестиций корпоративного сектора в «интеллектуальные активы» (НИОКР, патенты и торговые знаки, подготовка персонала, оптимизация систем менеджмента и т. д.) достигает 8–11
процентов от ВВП, почти не уступая объему капиталовложений компаний в основные средства. Американские компании тратят 12 процентов от ВВП на НИОКР. Неудивительно, что в развитых странах именно крупные корпорации играют ведущую роль в организации и финансировании НИОКР. На их долю приходится в среднем около 70 процентов совокупных расходов на НИОКР и около 80 процентов всех выполняемых исследований и разработок.
Во время последнего экономического кризиса в западных корпорациях затраты на НИОКР сокращались в последнюю очередь. В 2009 году совокупный объем затрат на НИОКР 1 000 крупнейших публичных компаний сократился на 3,5 процента по сравнению с предыдущим годом (до 504 миллиардов долларов). Причем сокращение финансирования НИОКР было зафиксировано впервые с 2000 года. И это снижение оказалось существенно меньшим, чем снижение выручки компаний (-8%), да и наблюдалось далеко не во всех мировых регионах. Например, в тот же период кризиса китайские и индийские компании увеличивали такие расходы (+41,8%). В России среди 500 компаний обрабатывающей промышленности в 2009 году расходы на НИОКР сократили более половины предприятий по сравнению с уровнем 2008 года. По объему затрат на НИОКР среди 1 000 международных компаний оказался лишь «Газпром» – 900 миллионов долларов. Среди крупнейших публичных компаний мира флагман российской экономики занял по этому показателю 119-е место.
Не воодушевляет и патентная активность российских компаний. По оценкам Эльвиры Набиуллиной, в 2010 году 22 государственные компании получили 1 тысячу патентов, всего 5 из которых международные. В тот же период только Microsoft было запатентовано около 5 тысяч своих идей.
И это неудивительно. Ведь на это нужны деньги, причем в случае с международной защитой речь идет о суммах, которые значимы даже для бюджета успешной компании. Что касается государственных компаний и корпораций, то в этих структурах зачастую просто нет квалифицированных специалистов, способных грамотно провести все процедуры по оформлению и регистрации.
В прошлом году авторитетное агентство Thomson Reuters опубликовало свои оценки научной активности в разных странах. По результатам исследования Россия по этому показателю отстает от остальных стран BRIC, особенно от Китая. За последние 30 лет Китай увеличил число научных публикаций в 5 тысяч раз. Количество научных публикаций России осталось на уровне 1981 года.
Судя по всему, отечественные разработчики или не могут, или по тем или иным причинам не хотят продавать свои технологии внутри страны. И это объяснимо – у нас просто отсутствует эффективная система коммерциализации интеллектуальной собственности, в результате которой разработчик технологии, тот же самый ученый, становится успешным предпринимателем.
Попытка исправить положение была сделана еще два года назад. Летом 2009 года был принят Федеральный закон № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности» (далее – Закон № 217-ФЗ), предоставляющий право бюджетным научным учреждениям и вузам, а также учреждениям и вузам государственных академий наук учреждать хозяйственные общества без согласия собственника их имущества, вносить в оплату уставного капитала таких обществ права на результаты интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат учреждениям и вузам, денежные средства и иное имущество, а также самостоятельно распоряжаться поступающими доходами от распоряжения долями (акциями). Предварительные итоги таковы: с момента принятия закона из ожидаемых 3 тысяч обществ создано немногим более 700.
Причина в том, что закон не решил целый ряд проблем, в том числе возможность предоставить в аренду таким обществам помещение, необходимое для работы. Учреждения и вузы обязаны объявлять конкурс, руководствуясь нормами Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», со всеми сопутствующими сложностями.
Далее возникает вопрос с внесением в уставный капитал оборудования, приобретенного за счет внебюджетных средств – здесь преградой являются Гражданский и Бюджетный кодексы Российской Федерации, которые после принятия закона поменять в этой части забыли. Кроме того, во многих учреждениях и вузах отсутствуют официально зарегистрированные результаты интеллектуальной деятельности, то есть результаты есть, но на балансе они не числятся или не зарегистрированы в установленном порядке.
Однако главное то, что по Закону № 217-ФЗ учреждению или вузу должно принадлежать не менее 25 процентов от уставного капитала акционерного общества или не менее 1/3 доли в обществе с ограниченной ответственностью. В США, например, такая доля составляет около 3–4 процентов. Это значит, что если потребуются значительные вложения инвесторов для реализации (читай коммерциализации) проекта, инвестор должен делать это при условии, что у учреждения или вуза всегда будет более (!) 25 процентов или 1/3 уставного капитала. Научно-исследовательский институт (далее – НИИ) всегда будет обладателем неизменной доли стартапа, даже если в процессе реализации того или иного проекта потребуется привлечение дополнительных инвестиций. Думаю, найти такого инвестора будет непросто. Но если все же таковой найдется, то владелец технологии рискует получить в качестве соинвестора прямого конкурента.
Представляется, что отсутствие инновационной активности определяется тем, что на инновации отсутствует спрос, который в первую очередь должен идти со стороны государства. Например, в начале апреля 2011 года на заседании Комитета Государственной Думы по транспорту российским производителям инновационных полимерных материалов пришлось доказывать, что внедрение их продукции при общем удорожании дорожного строительства на 1 процент продлит срок эксплуатации дорог в 2–3 раза. В этот раз удалось убедить депутатов направить в правительство предложения по применению полимеров в строительстве дорог. При этом неизвестно, сколько потребуется времени на принятие правительством такого решения и будет ли оно принято вообще.
Еще один пример – рынок микроэлектроники. Согласно оценкам экспертов при отсутствии государственного регулирования к 2015 году объем российского рынка микроэлектроники составит лишь 2,84 миллиарда долларов. Но в случае если будут приняты ограничительные меры для импорта, к 2015 году российский рынок сможет вырасти до 10 миллиардов долларов. Для этого необходима государственная программа, которая ограничит присутствие импорта на внутреннем рынке. Наиболее показательным здесь является совместный проект «Ситроникса» и «Роснано», в рамках которого на заводе «Микрон» налажено производство микрочипов, изготовленных по нормам 90-нанометрового технологического процесса (такие чипы используются в изготовлении SIM-карт, банковских карт, RFID-билетов (метро) и спутниковой навигации (системы ГЛОНАСС/GPS). Еще в 2010 году участники проекта – АФК «Система» (владелец «Ситроникса») и «Роснано» предложили правительству программу, направленную на защиту внутреннего рынка микроэлектроники. В начале этого года была согласована лишь малая часть этой программы – принято решение оборудовать отечественными микрочипами загранпаспорта. Вопрос о предоставлении преференций при совершении государственных закупок российским производителям электронных компонентов пока не решен. Китайцы, к примеру, еще в 2008 году ввели беспрецедентные меры по поддержке производителей микросхем и полупроводников, в том числе полностью освободили от налогов на пять лет компании, чье производство в этом секторе преду- сматривает долгосрочные инвестиции. Обратите внимание, государство в Китае не финансирует частный бизнес, оно просто создает необходимую среду для развития инноваций.
По тому же пути идет и Турция, которая никогда не была локомотивом науки и технологий, а сейчас по экономическим показателям занимает седьмое место в Европейском экономическом сообществе. В этой стране организации, которые проводят работы по НИОКР, подтвержденные Советом по науке и техническим исследованиям, университеты и институты, специализирующиеся на предмете исследований, относящимся к НИОКР, могут рассчитывать на дотации, равные 100 процентам затрат на НИОКР в дополнение к снижению затрат на такие работы. Турецкие компании, которые созданы совместно с университетами и НИИ исключительно для проведения работ по НИОКР (включая производство программного обеспечения), с целью продвижения развития технологий в специальных зонах технологического развития при определенных условиях освобождены практически от всех налогов. Как результат, сегодня по темпам роста экспорта электроники Турция догоняет Китай. Крупнейший турецкий экспортер электроники корпорация Vestel занимает почти 20 процентов от европейского рынка телевизоров. А в рейтинге стран «благоприятных для ведения бизнеса», который рассчитывает Всемирный банк совместно с Международной финансовой корпорацией (IFC), Турция занимает 59-е место (2009 год). Россия находится на 120-м месте, после Уганды, Эфиопии и Бангладеш.
Есть и другие страны, за несколько десятков лет совершившие настоящий прорыв в сфере инноваций. Например, Израиль, Сингапур и Финляндия стали мировыми центрами в области медицины, биотехнологий и микроэлектроники, а начинали они с нуля.
Все эти примеры имеют одно сходство – в каждой их названных стран были определены точки роста и созданы условия для того, чтобы коммерциализация технологий была выгодна. Тем самым государство ав- томатически выигрывало от роста успешных стартапов, и наоборот. В России же пока наблюдается броуновское движение. Причем в замедленном темпе.
Возможно, проблема в том, что не всем понятна государственная стратегия развития инноваций. Нет четких задач, целей и временны ́ х рамок, никто не контролирует взаимоотношения различных субъектов (чиновников, фондов, кредиторов). В конце концов нет ни одного чиновника, который персонально отвечал бы за реализацию инноваций в стране!
А ведь если обратиться к истории вопроса, то выяснится, что еще в начале 2000-х годов было создано специальное министерство – Министерство промышленности, науки и технологий, которое соединяло направления науки и технологии и являлось единым органом власти, отвечающим за развитие инноваций. К сожалению, теперь в результате административной реформы промышленность находится в ведении Министерства промышленности и торговли. Технологии вообще вывели на уровень агентств. Наука передана в ведение бывшего Министерства образования, ныне Министерство образования и науки, которое и определяет политику государства в сфере науки и инноваций. Получается, что теперь за государственную политику в этой сфере и собственно науку отвечает одно ведомство. За промышленность, которая нуждается в разработках науки, – другое, за технологии, которые и являются внедрением, – третье. В общем, как в басне…
В итоге в результате проведенной в 2010 году Правительством Российской Федерации экспертизы научных отчетов, выполненных в рамках государственного заказа, выявлено, что научной ценности они не представляют, их содержание неактуально и не соответствует целям НИОКР.
Ущерб от неэффективного использования государственных расходов на НИОКР Федеральная служба финансовобюджетного надзора оценила в 480 миллионов рублей. В государственных масштабах сумма вроде небольшая. Но результат катастрофический: в 2009 году профильным департаментом науки и про- мышленной политики подано всего семь заявок на изобретения из 390 завершенных научно-исследовательских и опытноконструкторских работ.
Что же мы имеем? Есть попытки создать в стране некие острова инновационной активности. В мае 2010 года в «Сколково» приезжали главы крупнейших американских венчурных фондов и управляющих компаний. Немногим позже прошла встреча «Роснано» и венчуров «Кремниевой долины», приехавших в составе делегации Арнольда Шварценегера, на тот момент губернатора Калифорнии. Обе встречи закончились ничем. Инвесторы не готовы вкладывать деньги, когда правила игры противоречивы, а зачастую и вовсе не определены.
До сих пор на уровне федерального законодательства нет ни одного акта, в котором было бы дано определение понятия «инновационная деятельность». Недавно в своем интервью, директор по правовым вопросам Фонда «Сколково» Игорь Дроздов на вопрос, будет ли раскрыто понятие «коммерциализация», ответил, что «пока никто не может предложить понятного и четкого определения данного понятия. И мы были бы рады, если бы кто-то сумел это сделать».
Возможно, если бы мы смогли отказаться от идеи охватить инновациями все и сразу и последовательно проводили единую политику в этой сфере, то стали бы конкурентными на высокотехнологичных рынках.