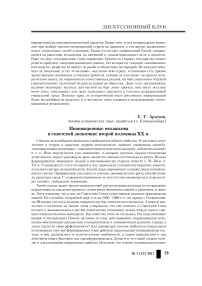Инновационные механизмы в советской экономике второй половины ХХ века
Автор: Артемов Евгений Тимофеевич
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: Дискуссионный клуб
Статья в выпуске: 1 (12), 2011 года.
Бесплатный доступ
В рамках заседания Научного совета РАН по проблемам российской и мировой экономической истории в г. Звенигороде 4-6 февраля 2011 г. состоялся круглый стол на тему «Инновационные механизмы в технологическом и экономическом развитии России в XVIII-ХХ вв.»
Модернизиция, инновация, экономическая история, урал
Короткий адрес: https://sciup.org/14723568
IDR: 14723568
Текст краткого сообщения Инновационные механизмы в советской экономике второй половины ХХ века
Сначала целесообразно высказать соображения общего свойства. В последнее десятилетие в теории и практике широко используются понятия «экономика знаний», «инновационная экономика», «высокотехнологичная цивилизация», «общество знаний» и т. п. Ими определяется тип экономики, в котором научная, научно-техническая деятельность играет решающую роль, является главным источником ее роста. Начало формирования экономики знаний в высокоразвитых странах относят к 50—60-м гг. XX в. Утверждается, что в это время в них произошло становление мощного, самостоятельного сектора по производству знаний, ядра современных национальных инновационных систем. Превращению последних в «мотор» экономического роста способствовала рыночная среда. С «совершенствованием» ее институтов связываются и перспективы «новой», глобальной, экономики.
Такой подход задает вполне определенный ракурс ретроспективным исследованиям, ограничивая их анализом процесса становления экономики знаний в рыночных условиях. Хотя очевидно, что в том же Советском Союзе существовало развитое производство знаний. Не случайно, по крайней мере в те же 1950—1960-е гг., он наряду с Соединенными Штатами считался лидером мирового научно-технического прогресса. А многие аналитики и политики на Западе тогда утверждали, что еще немного и Советский Союз оставит в экономическом и научно-техническом отношении далеко позади своего главного геополитического конкурента. Как известно, этого не случилось. Но тогда возникает вопрос: в чем причина? Почему на каком-то этапе действовавшие инновационные механизмы обеспечивали динамичное технологическое и экономическое развитие страны, а затем утратили свою эффективность? Для адекватных ответов требуются специальные исследования того, как формировалась и как работала национальная инновационная система, в чем заключались ее отличительные особенности, в каком направлении и под действием каких факторов она трансформировалась. Думается, что такой подход полезен и для понимания современных проблем. Ведь ясно, что «строя» национальную инно- вационную систему, адекватную рыночным отношениям, важно учитывать ее родовые особенности, уходящие корнями в советскую эпоху, так называемый эффект колеи.
При исследовании процесса формирования национальной инновационной системы прежде всего возникает проблема измерения ее вклада в экономический прогресс. Часто все сводится к анализу статистики научных кадров и динамики расходов на науку. Это важные показатели. Но они характеризуют общественные затраты, а не результативность практического приложения научных знаний. Их абсолютизация может привести к неадекватному пониманию происходивших процессов. Хороший пример тому — Советский Союз в последние годы своего существования. Тогда с гордостью говорили, что четверть всех научных сотрудников мира составляют советские ученые и их число растет опережающими темпами. С каждой пятилеткой увеличивался удельный вес затрат на науку в национальном доходе (ВВП) страны. По данному показателю СССР вышел чуть ли не на первое место в мире. В то же время наблюдались явное снижение эффективности используемых ресурсов, заметное падение темпов научно-технического прогресса и, как следствие, «застой» в экономическом развитии.
Другими словами, нужны дополнительные измерители социальной результативности науки. Очевидно, они должны учитывать уровень исследований, новизну технических решений, их конкурентоспособность, масштабы технологических сдвигов, воздействие нововведений на динамику производительности труда. Однако это преимущественно качественные характеристики. Сегодня их пытаются выразить системой индикаторов, отражающих уровень платежеспособного спроса на научные знания (публикаторская активность, инновационная составляющая в деятельности предприятий, участие частного капитала в финансировании НИОКР, доля высокотехнологичной продукции в товарообмене между странами, масштабы патентования результатов разработок внутри страны и за рубежом, рыночная стоимость интеллектуального продукта и т. д.). Но эти измерители трудно использовать для анализа советской экономики. Следовательно, необходим специфический подход к определению уровня и реальной отдачи ее инновационного потенциала.
Теперь о некоторых отличительных чертах советской инновационной системы. Под ней, как правило, понимают совокупность организаций, занятых производством и практическим применением научных знаний. Деятельность этих организаций регулируется комплексом правовых, экономических, коммуникативных, этических, социокультурных и других институтов. Но они являются производным инструментом действующих базовых отношений: власти, собственности, общественного производства, распределения, обмена, потребления и т. д. Отсюда — их заданность на достижение вполне конкретных целей. В советской системе главными считались укрепление политико-идеологических оснований режима и наращивание его военно-экономической мощи. Вклад в решение этих задач играл определяющую роль в оценке важности, успешности того или иного направления инновационной деятельности, служил оправданием понесенных затрат. В соответствии с таким подходом выстраивались мотивационные механизмы, принимались стратегические решения и т. д. Поэтому советская модель научно-производственного цикла обладала качествами, весьма отличными от инновационных механизмов, действующих по рыночным правилам. Следовательно, ее результативность нужно оценивать с учетом данного обстоятельства. Другое дело, что при переходе к рыночной экономике здесь возникает масса проблем. Свидетельство тому — острейшие дискуссии о том, как нам сегодня модернизировать отечественную инновационную систему.
Залогом поступательного развития производства и практического использования научных знаний являются эффективная организация и координация деятельности субъектов инновационного процесса. Ключевая роль в его регулировании даже в рыночной экономике принадлежит государству. В директивно управляемой системе оно несло
30 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ всю полноту ответственности за функционирование научно-производственного цикла. Это обеспечивалось наличием жесткой управленческой вертикали. По идее, она должна была оптимизировать взаимодействие заказчиков, производителей и потребителей научных знаний в рамках выполнения централизованно устанавливаемых плановых заданий. Считается, что команды директивных органов спускались «сверху вниз», не обсуждались и строго выполнялись. На самом деле все было гораздо сложней. Во-первых, решения носили преимущественно ситуативный характер, являясь ответной реакцией на конкретные проблемы. Во-вторых, в их выработке, как правило, участвовало множество субъектов, представления которых о должном, понимание обстановки, видение перспектив нередко были альтернативны. Поэтому направление фактических действий определялось в ходе «притирки» позиций различных влиятельных сил. Свои частные интересы они могли прикрывать ссылками на общегосударственные нужды, теоретическими и даже идеологическими аргументами.
По мере трансформации советской экономики в «экономику согласований и бюрократического торга» происходило понижение уровня принятия решений. Иногда это было во благо, в частности, способствовало перераспределению ресурсов в пользу важных, но бесперспективных с точки зрения системы направлений научного поиска, преодолению административных барьеров при внедрении его результатов в практику и т. д. С другой стороны, снижение степени централизации в отсутствии реальных рыночных регуляторов открывало широкий простор для отстаивания частных (ведомственных, групповых и личных) интересов. Их реализация не решала принципиальных проблем, но требовала дополнительных ресурсов. Такое положение наблюдалось даже в самых приоритетных отраслях. По авторитетным свидетельствам, на излете советской эпохи решения о разработке и производстве ядерных «изделий» фактически принимались на внутриведомственном уровне. Конечно, это было весьма выгодно предприятиям, научным и конструкторским организациям отрасли. В выигрыше оставались и смежники, получавшие крупные заказы на разработку или модернизацию носителей и т. д. Но в какой мере эти затраты были оправданны — большой вопрос.
Одновременно можно привести примеры, когда личные и групповые побуждения выполняли роль катализатора в решении назревших проблем. Так, в частности, было при организации Сибирского отделения АН СССР и второго исследовательского и конструкторского ядерно-оружейного центра. Все это свидетельствует о необходимости специального изучения роли человеческого фактора в становлении и развитии советской инновационной системы.