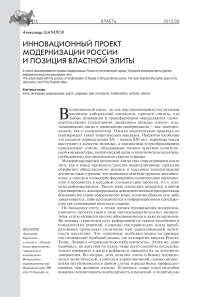Инновационный проект модернизации России и позиция властной элиты
Автор: Шатилов Александр Борисович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Обустройство России: вызовы и риски
Статья в выпуске: 9, 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается процесс модернизации России в постсоветский период. Основное внимание автор уделяет реформаторской роли российских элит.
Элита, инновации, модернизация, власть, реформы
Короткий адрес: https://sciup.org/170167103
IDR: 170167103
Текст научной статьи Инновационный проект модернизации России и позиция властной элиты
В политической науке, до сих пор находящейся под сильным влиянием либеральной идеологии, принято считать, что любые инновации и трансформации определяются «демо -кратическими» тенденциями, движением граждан «снизу», под -талкивающих элиты к проведению модернизации — как экономи -ческой, так и политической. Однако политическая практика не подтверждает таких теоретических выкладок. Напротив (особенно это касается периода конца ХХ — начала XXI вв.), народные массы выступают в качестве ведомых, а инициатива в преобразованиях принадлежит элитам, обладающим тонким чувством политиче ской конъюнктуры, политической меры и политического креатива, необходимого для преодоления старого порядка.
Модернизационный потенциал элиты стал определяющим после того, как в конце прошлого столетия манипулятивные стратегии обработки общественного мнения и массовые коммуникации достигли такого уровня, что позволили элитным группам дистанци онно, а иногда и иллюзорно формировать политическое простран ство и продвигать в массовом сознании свои проекты, в т.ч. про -екты реформаторские. Такого рода тенденция находится в явном противоречии с декларируемыми демократическими приоритетами большинства стран современного мира, поэтому обычно она либо замалчивается, либо преподносится в информационном простран стве как созидающая воля всего народа.
По большому счету, с точки зрения продвижения модерниза-ционного проекта такого рода «антидемократические» инициа тивы элиты являются вполне обоснованными и даже резонными. Во - первых, тернистый путь реформаций не терпит колебаний и популистских решений, а именно так происходит, когда преоб разования происходят спонтанно при зашкаливающей актив ности населения. Это, например, особенно видно на примере так называемой Арабской весны, где охлократия ввергла Египет, Тунис, Ливию в «перманентную турбулентность». Элита же, даже ошибаясь, но действуя по плану, чаще всего способна последова тельно проводить в жизнь реформы и доводить их до логичного завершения. Во вторых, хотя позиция элиты и бывает периоди чески эгоистической, а иногда и коррупционной, однако иници ативы истеблишмента в любом случае гораздо более профессио нальны, чем желания «толпы». В третьих, лишь элита способна вовремя почувствовать необходимость изменений, в то время как народные массы зачастую живут как бы по инерции и гораздо более консервативны в своих предпочтениях.
В этом плане начавшаяся на рубеже 1980-х–1990-х гг. в СССР, а затем продолженная в России модернизация во многом была «элитарным замыслом», под реализацию которого впоследствии истеблишментом были подтянуты в качестве группы поддержки широкие слои населения.
Надо подчеркнуть, что модернизация России (СССР) во многом была вынужденной, поскольку к середине 1980-х гг. страна исчерпала ресурс актуальности своей политической системы и стояла на пороге неконтролируемого обвала. При этом, однако, несмотря на то что в советской экономике и социальной системе имелись серьезные издержки (дефицит товаров народного потребления, «нефтяная игла», неэффективность планового хозяйства, отсутствие стимулов к интенсификации трудовой деятельности и пр.), эти сферы обладали определенной устойчивостью и могли стагнировать и деградировать еще долго. Однако политические, идеологические и управленческие основы государства стали настолько архаичными, что это угрожало утратой легитимности властной элите, которая в итоге и выступила главным инициатором реформирования сначала Советского Союза, а потом и Российской Федерации.
Однако, помимо достижения «реформаторского консенсуса» внутри управленческой элиты, для успешного проведения кардинальных преобразований требуется присутствие еще двух факторов – наличие сильного и авторитетного лидера, готового взять на себя ответственность за непростые модернизационные решения, а также формирование сильных групп поддержки внутри общества, осознающих ситуацию по принципу: «так жить нельзя».
Тем не менее инициатива модернизационного выбора всегда остается за элитами. Так, именно реформаторская часть партаппарата, бюрократии, «силовиков» и «крепких хозяйственников» стала основной движущей силой реформ рубежа 1980-х–1990-х гг. Однако проведение рыночных и «демократических» преобразований не было обусловлено «либеральным прозрением» вчерашних дисциплинированных членов КПСС, как это зачастую подается в политологической лите- ратуре и постсоветской мемуаристике1. И курс «нового мышления» М.С. Горбачева, и радикальные реформы Б.Н. Ельцина явились вполне рационально мотивированным решением правящей элиты, которая, рассмотрев иные модернизационные альтернативы («имперскую», «третий путь», «китайский вариант» и пр.), пришла к выводу о меньшем из зол. Тем более что либерально-демократический и рыночный путь сулил ей относительную свободу рук и «монетизацию» имеющихся властных полномочий. Остальные варианты содержали гораздо большие риски и проблемы. Так, неоимперский проект был чреват гражданской войной по югославскому образцу, «третий путь» был нереален вследствие слабости в политической культуре России ценностей компромисса и диалога, китайский реформаторский авторитаризм представлялся сомнительным, поскольку для его утверждения потребовались бы массовые репрессии, к которым общественное мнение того времени было явно не готово.
В целом элитам в 1990-х гг. удалось достичь выполнения своего базового замысла. Старая коммунистическая система была сломана, рыночные реформы, пусть и не без проблем, проведены, Россия вписалась в мировое демократическое сообщество. Тем не менее и данный реформаторский путь модернизации был отмечен существенными издержками. Во-первых, откровенно антисоциальный и элитарный характер реформ вызвал активное протестное сопротивление граждан и привел власть к утрате легитимности. А это было чревато непредсказуемым охлократическим вариантом развития событий. Во-вторых, «открывшись», Россия подверглась жесткому давлению со стороны мировых конкурентов, которые не столько стремились помочь ей встать на демократические рельсы, сколько вели на ее территории «экспансию без правил», рассматривая РФ преимущественно как «добычу» по итогам победы в «холодной войне». Соответственно, получив контроль над основными политическими и экономическими ресурсами страны, элита
РФ была практически обречена стать «патриотической». Истеблишменту требовалась надежная защита своего влияния и ресурсного потенциала от внутренних и внешних противников. В-третьих, проведенные реформы не способствовали выходу страны на более высокие ступени своего развития, а, напротив, скорее способствовали ее деградации даже в тех сферах, которые в советский период считались вполне конкурентоспособными.
Все это предопределило новую линию в постсоветской политике российской элиты. Именно ее усилиями на пост президента РФ продвигается В.В. Путин, а власть берет курс на стабилизацию политической и социально-экономической ситуации в стране.
Новый курс руководства РФ не являлся контрреформаторским. Он не предполагал отказа от прежней политической и экономической линии, а был ориентирован на ее оптимизацию и совершенствование в соответствии с приоритетами XXI в., с одной стороны, и интересами обеспечения устойчивости российского государства – с другой.
Тем не менее курс стабилизации потребовал от элиты определенной жесткости в отношении несистемных сил. Так была выстроена вертикаль власти, которая предполагала жесткое соподчинение звеньев государственного аппарата, проведена политика десуверенизации российских регионов (в диапазоне от «контртеррористической операции» до приведения местных законодательных актов в соответствие с Конституцией РФ), подавлено сопротивление квазивластных сообществ (региональные «бароны», олигархи, криминалитет, «четвертая власть»), выступавших в 1990-х гг. в качестве альтернативных центров влияния. Одновременно вокруг В. Путина произошла кристаллизация системных элитных групп, которые, несмотря на несовпадение политических и бизнес-интересов, объединились в деле реконструкции России на основе гибкого концепта «суверенной демократии» (группа Сечина, группа Суркова, группа Кудрина, группа Чемезова, группа Медведева и др.). Все это привело к постепенному выходу страны из кризиса, росту благосостояния населения, возрождению отечественной государ -ственности, выстраиванию пусть и недо- статочно эффективной, но относительно четкой властной конструкции.
Тем не менее эпоха начала ХХI столетия требовала большего, а именно в полной мере инновационного прорыва, способного вернуть Россию в число мировых лидеров. Кроме того, к инновационности Россию подталкивали и новые параметры современности.
Во-первых, надо отметить глобальный идеологический кризис, который сопровождался выхолащиванием или дискредитацией ранее, казалось бы, незыблемых политических, экономических и социальных истин. В частности, выявились несовершенство и противоречивость либерально-демократической модели и рыночной экономики. Так, политика США по «принуждению к демократии» существенно подорвала этические и морально-нравственные основы данного режима, одновременно выявились его значительные политические и экономические изъяны в тех странах, которые приняли либеральную догматику в качестве «единственно верного учения» после поражения советской системы в ходе «холодной войны». Несколько позже в результате глобального кризиса 2008–2010 гг. была поставлена под вопрос действенность «невидимой руки рынка». Более того, возникла дилемма: как обеспечить эффективность рыночной модели в условиях распространения в мире потребительских настроений и идеалов социального гедонизма? Выяснилось, что граждане даже развитых западных стран уже не готовы поддерживать капитализм в его жестких версиях, а социальная рыночная экономика является неэффективной без соответствующей модернизации на началах инновационности.
Кроме того, в начале нулевых годов выяснилось, что прежние базовые параметры функционирования государств и обществ изменились самым кардинальным образом. Прежде всего, трансформировались пространственно-временные характеристики существования человечества. Ритм глобальной жизни стал гораздо более динамичным, оперативным и многоаспектным. Развитие средств коммуникации привело к резкому увеличению информационных потоков и росту информационной грамотности населения. С легкой руки пиарщиков и специалистов в области рекламы получили массовое распространение новые стандарты жизни и цивилизованного существования. С учетом этого определяющим для населе -ния большинства государств мира стал фактор новизны, который предусматри-вает постоянный зондаж общественных предпочтений со стороны власти и биз -неса и периодический апгрейд политиче ской и социально экономической жизни. Игнорирование данного фактора стано -вится либо поводом для роста напряжен ности в стране, либо даже чревато рево люционной ситуацией. Это обстоятель-ство опять же стимулирует элиты выдви гать инновационные стратегии, которые, помимо экономических целей, призваны решать еще и цели политические, в част ности гарантировать лояльность граждан и обеспечивать легитимность правящего режима.
Все эти аргументы учитывались, когда в середине нулевых годов руководство РФ впервые обозначило свое стремление пере -йти от политики стабилизации к политике роста и развития. Сначала это были точеч ные проекты, призванные протестировать целесообразность масштабных вложе -ний в инновационную политику. Так, в 2005 г. появились особые экономические зоны (промышленно - производственные, технико внедренческие, туристско рекреационные) и государственные кор -порации (первая — Агентство по страхо -ванию вкладов — возникла в 2003 г., а в массовом порядке ГК стали возникать с 2007 г.).
Более того, после образования «тан-дема» инновационный курс был заложен в программу действий нового президента РФ Д.А. Медведева. В частности, высту-пая еще в рамках своей предвыборной кампании, он в феврале 2008 г. на эконо-мическом форуме в Красноярске предста вил свою экономическую программу раз вития страны, рассчитанную на будущий президентский срок. Так, он сформули ровал 4 основных направления, на кото -рых должна сконцентрироваться Россия. «Мы должны сконцентрироваться на своеобразных четырех “и” — институтах, инфраструктуре, инновациях, инвести циях», — заявил тогда Медведев1. Его заяв -ление явилось результатом коллективного выбора российской элиты, которая, таким образом, сделала ставку на «качественное» возвращение РФ в глобальную премьер лигу. Такого рода позиция отечественного истеблишмента нашла поддержку и у насе-ления страны, подавляющее большин-ство которого на тот момент находилось в состоянии «стихийного патриотизма» и было готово одобрять любые «великодер жавные» проекты власти.
Однако действительность осадила инновационный настрой российской власти. Сначала глобальный финансово экономический кризис заставил руко водство страны перейти к режиму отно сительной экономии. В итоге мн огие инновационные проекты были приоста новлены, а активность инновационных структур минимизирована. В этом плане примечательна деятельность госкорпора ции «Роснано», которая, будучи создана в 2007 г., первых результатов добилась только в 2010 г., и то после резкой кри-тики со стороны руководства РФ. Более того, ГК до сих пор не может выйти на значимые объемы производимой продук -ции с использованием нанотехнологий. В частности, объем выпущенной по линии «Роснано» продукции в 2012 г. составил всего 25 млрд руб., что было выше пока -зателей двух предыдущих лет (1 млрд руб. в 2010 г., 11 млрд руб. в 2011 г.), но явно недостаточно с учетом имеющейся го сударственной поддержки и ресурсного потенциала2.
Однако после того как прошел пик кри -зиса и Россия вернулась к прежним пла нам инновационного обновления, модер низацию стали тормозить высокие цены на нефть. Вернее, инновационный проект забуксовал не столько от высоких доходов от экспорта «черного золота», которые вполне можно было инвестировать в наи более перспективные направления и раз работки прорывного характера, а от инно вационной апатии значительной части властной элиты, которая предпочла более традиционные пути освоения сырьевых средств. Кроме того, в правящем классе возникли принципиальные дискуссии относительно целесообразности под держки инновационных институтов (ОЭЗ, госкорпорации, инновационный центр «Сколково»). Так, многие критики инно вационного проекта отмечали «откаты» и нецелевое расходование финансов, выделенных данным структурам, неэффективность их работы, слабую практическую отдачу, отсутствие новых технологий, способных вывести Россию на следующую ступень исторического развития. Соответственно, оппоненты предлагали сделать ставку на проект новой индустриализации, ориентированный на подъем российской промышленности. В частности, в качестве лоббистов неоиндустриализации выступило бизнес-объединение «Деловая Россия». В своем заявлении в мае 2011 г. оно декларировало в качестве необходимого «путь быстрого экономического развития, диверсификации, путь создания современной высокоразвитой экономики, основанной на свободной рыночной конкуренции, развитом частном секторе». А для этого, по мнению предпринимателей, «главным локомотивом решения названной задачи должен стать промышленный сектор, который является основой любой развитой экономики и который сегодня мы практически потеряли»1.
Таким образом, сегодня Россия находится на стадии выбора стратегии развития страны. По большому счету, ничего не мешает органично сочетать развитие традиционной промышленности и инновационных технологий будущего. Пока же препятствиями для выработки сбалансированного и в то же время перспективного курса являются следующие факторы:
– отсутствие четко обозначенной инновационной стратегии развития страны;
– инновационная инертность и пассивность большей части федеральной и региональной бюрократии;
– отсутствие политической воли в продвижении инноваций со стороны высшего руководства страны;
– неготовность бизнеса вкладываться в развитие долгосрочных инновационных проектов с «туманными» итоговыми результатами;
– эгоистичность и коррумпированность значительной части российской элиты.
Тем не менее есть основания полагать, что возрастающие внутренние и внешние риски все-таки заставят прагматичную отечественную элиту форсировать инновационную политику, чтобы обеспечить стране конкурентоспособность в глобальном масштабе, а себе – легитимность и пролонгацию властных полномочий.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 13-02-00357а.