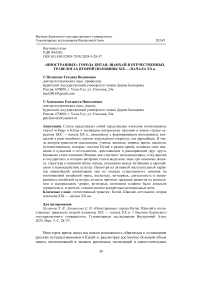«Иностранные» города Китая: Шанхай в отечественных травелогах второй половины XIX - начала XX в
Автор: Паликова Т.В., Хантакова Е.Н.
Статья в выпуске: 3, 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья представляет собой продолжение изучения отечественных «travel writing» о Китае и посвящена интересному явлению в жизни страны середины XIX - начала XX в., связанному с формированием иностранных концессий в ряде китайских портов, вынужденно открытых для европейцев. В числе авторов-травелогов миссионеры, ученые, военные, моряки, врачи, писатели, путешественники, которые, посетив Китай в разное время, оставили свои описания и суждения о сеттльментах, дополняющие и расширяющие друг друга. Базовыми стали описания Шанхая, как отмечают экспедиционеры, «государства в государстве», в которых авторами статьи выделены лишь три основных аспекта: структура и внешний облик города, отношения между китайцами и европейцами и взаимодействие культур. Несмотря на активный наступательный характер европейской цивилизации она не оказала существенного влияния на многовековой китайский тренд, поскольку, во-первых, длительность и непрерывность китайской культуры создали прочные традиции развития на ментальном и материальном уровне, во-вторых, иноземное влияние было локально ограничено и, в-третьих, ставило вполне конкретные колониальные цели.
Отечественный травелог, китай, шанхай, сеттльмент, 2-я пол. xix - нач. хх вв
Короткий адрес: https://sciup.org/148330170
IDR: 148330170 | УДК: 94(510 | DOI: 10.18101/2305-753X-2024-3-28-37
Текст научной статьи «Иностранные» города Китая: Шанхай в отечественных травелогах второй половины XIX - начала XX в
Паликова Т. В., Хантакова Е. Н. «Иностранные» города Китая: Шанхай в отечественных травелогах второй половины XIX — начала ХХ в. // Вестник Бурятского государственного университета. Гуманитарные исследования Внутренней Азии. 2024. Вып. 3. С. 28‒37.
Некоторое время назад мы имели возможность обратиться к сочинениям русских путешественников в Китай и, рассмотрев достаточно большой объем писем, воспоминаний и записок различных экспедиций и самостоятельных путешествий начиная с 10-х гг. XIX в. по 10-е гг. ХХ в., выделили несколько сюжетных линий, остановились на двух из них (образ Востока и городское пространство китайских городов) [8; 9]. В предлагаемой статье обратимся еще к одному сюжету — китайские «иностранные» города, увиденные русскими путешественниками.
Прежде чем приступить к исследованию данного сюжета, скажем, что отношения Китая с европейскими народами (примерно с XV в.) имеют циклический характер, когда открытость сменялась закрытостью границ, но переломить ситуацию в свою пользу европейским державам удалось после опиумных войн и подписания Нанкинского договора 1842 г., который позволил превратить ряд важнейших торговых прибрежных городов (Кантон, Шанхай, Фучжоу, Нинбо, Тяньцзинь, Нанкин, Ханькоу, Ухань) в открытые порты и сформировать там европейские концессии — сеттльменты (небольшие кварталы, обособленные от основного города). Особое место занимает Гонконг, представляя собой торговую колонию, развивавшуюся обособленно на территории, отторгнутой Британией (ставшей ее колонией по Пекинскому договору 1860 г.).
Не все русские путешественники побывали в означенных городах, поэтому текстов будет существенно меньше и пути посещений были различны: кто-то добирался сухопутным путем, кто-то морским. Сосредоточимся на сочинениях Иосифа Гошкевича, первого русского дипломата в Японии, участника 12-й Русской духовной миссии в Китае (1839-1848); Воина Андреевича Римского-Корсакова, контр-адмирала, командира шхуны «Восток» (1852), совершившего восточный поход в 1854-1857 гг.; Всеволода Владимировича Крестовского, русского писателя, официального корреспондента Правительственного вестника и Морского сборника, секретаря начальника Тихоокеанской эскадры (1880‒1882); Василия Дмитриевича Черевкова, писателя, врача на судах сибирского флотского экипажа и тихоокеанской эскадры (1881-1899); Константина Александровича Вяземского, князя, путешественника, члена Французского географического общества, объехавшего Азию (Сибирь, Китай, Сиам) верхом (1891); Василия Александровича Алексеева, синолога, совместно с известным французским ученым-синологом Эдуардом Шаванном отправившегося в научную экспедицию по Северо-Восточному Китаю (1905). К сожалению, какая-то часть имен авторов оказалась не идентифицирована, но это не снижает значимости их наблюдений.
Как видим, авторы посетили эти города в разное время, но мы не будем описания располагать в хронологическом порядке, учитывая, что восприятие их не изменяется во времени, а сведения дополняют друг друга. Пожалуй, только два города произвели серьезное впечатление на путешественников — Шанхай и Гонконг. Думается, именно они и были воплощением всех тенденций взаимодействия между Востоком и Западом, однако остановимся только на Шанхае, по оценке наших соотечественников, «оригинальном городе, представляющем единственное в своем роде государство в государстве как в буквальном, так и в переносном значении этого слова», во-первых, «после скитания по грязным портовым городам Китая, среди их страшной толчеи и вони, Шангай производит необыкновенно сильное впечатление», во-вторых [11], и «Шанхай не город, а более чем город: это города, пригороды, иностранные владения и концессии», в-третьих [1].
Выделив для себя именно этот сюжет, отметим в нем три основных аспекта: внешний облик города, взаимоотношение между европейцами и китайцами и влияние европейской культуры на китайскую.
Прежде всего тексты травелогов позволяют представить структуру приморского города. Как правило, он состоит из «европейского города», правильнее, европейских кварталов, расположенных либо в предместьях, либо на острове, и так называемого «застенного города», т. е. собственно китайского, который по традиции обнесен высокой крепостной стеной. Эти два «города» разъединяют каналы и соединяют переброшенные через них мосты. Чтобы не быть голословными, приведем описание Шанхая, расположенного «вдоль левого берега реки, в общем очертании своем следует извиву ее течения, образуя латинское S» [6]. Европейское предместье в нем занимало значительное пространство и было застроено великолепными каменными домами, возведенными не более чем за десятилетие, «и это одно уже должно доказать, что тут вращаются огромные капиталы» [10]. Предместье разделено на три участка (часть, квартал) — американский, английский и французский, который «с северной, восточной и юго-восточной сторон вплотную охватил своими строениями набережную крепостного рва, окружающего старый застен-ный китайский город, ныне совершенно уже оттесненный Европой от берега Вузунга» [6]. Несмотря на наличие китайского города «на первый взгляд, посмотрите ли вы с рейда, пройдетесь ли вдоль набережной и по прилегающим к ней улицам, Шанхай сделает на вас впечатление совершенно европейского города» [6]. Вдоль предместья устроена городская набережная с бульваром, «часть ее почти на две сажени приподнята над уровнем воды и прекрасно облицована каменными плитами». Как замечает В. В. Крестовский, три европейских квартала обладают своим нравом, звуком, запахом: американский квартал занимает северную часть города и отличается деловым, рабочепортовым характером: здесь находятся доки, верфь, мастерские, угольные и товарные склады, конторы и пароходные пристани с подъемными кранами и лебедками; постоянно стучат молоты и пахнет копотью каменного угля и кокса, перегорелые остатки которых используются вместо щебенки [6]; добавим, вырываются клубы дыма из фабричных труб, здесь в этой самой неприветливой, сумрачно выглядевшей части Шанхая «ощущалось дыхание могучей западной жизни… слышалось во всем этом характерном шуме… имеющем так мало общего со своеобразными звуками настоящего китайского города… кипит деятельная жизнь, полная сознания своей силы и власти» [11].
Английский квартал — «самая богатая и наилучше во всех отношениях обставленная часть иностранного Шангая» [11] — больше напоминает «город дворцов», представляющий, если смотреть от реки, картину, не лишенную своего рода грандиозности. Над зеленою каймой бульвара высится длинный ряд домов-великанов в три, четыре и более этажей, массивной постройки с тяжелыми колоннами, балюстрадами, аркадами и вышками-бельведерами [6] «той же архитектуры, что и в прочих английских колониях теплого климата, т. е. с галереями или верандами кругом всех этажей» [10]. Над домами развеваются консульские и разные «компанейские» флаги, река «усеяна множеством разнообразных судов, на которых тоже пестреют всякие флаги и вымпелы… Все это издали придает городу праздничный вид, словно он по случаю какого-то торжества весь расцветился» [6]. На шоссированных, освещенных газом и монументально обстроенных улицах располагаются магазины с зеркальными стеклами в окнах, щеголяют выставками всевозможных европейских товаров: французские вина, гаванские сигары, манчестерские и лионские ткани, шефильдские стальные изделия, французский фарфор, английский фаянс и богемский хрусталь; тут же работают парижские модистки и куаферы, лондонские портные; немецкие пивные, венские фотографии, клубы и отели. О деловом характере говорят многочисленные банкирские и комиссионерские оптовые конторы, редакции местных газет [6]. «Эти широкие, прямые улицы, так хорошо распланированные и вымощенные; эти дома-дворцы набережной, от которых веет такой солидной самоуверенностью; эти блестящие магазины, где можно найти произведения всех стран света; комфорт и порядок внешней жизни заставляют вас забыть, что вы в Китае, и переносят воображение далеко, на европейский запад... На улицах — электрическое освещение в лучших частях города и газ повсюду, в самых глухих закоулках. И на всем, на всех учреждениях, лежит та же печать стройной гармонии, порядка и заботы об удобствах человеческой жизни, которая так резко чувствуется с первых же шагов … По тротуарам, продолжает В. Д. Че-ревков, снуют представители чуть ли не всех европейских и азиатских народностей; но порядок повсюду идеальный. Поддержание порядка в «Международной образцовой колонии», где постоянно живет до 200 000 китайцев и куда ежегодно приходит масса судов с их командами, зачастую состоящими из людей, прошедших огни, воды и медные трубы, — вся тяжесть полицейской службы лежит на плечах каких-нибудь 400 полисменов, из которых всего 100 человек европейцев; остальные — азиаты, главным образом индусы» [11].
И, наконец, закончилась «эта своего рода «дворцовая набережная»; опять потянулись длинные товарные склады… Французская часть Шанхая имеет совершенно деловой, торгово-промышленный характер: огромные многоэтажные склады, строения без окон похожие на крепостные сооружения; груды товаров на тротуарах улиц и на верфи; множество портовых рабочих» [1]. Развивая эту мысль П. С. Алексеева, В. В. Крестовский в некотором недоумении произносит: «.но удивительно, как это французы не завели у себя ни оперы, ни водевиля, ни даже кафешантана какого-нибудь. Сидят все в конторах, а вечер в клубе, и если не сколачивают деньгу, то предаются Бахусу» [6].
И как не удивительно, но «муравейник» — слово, часто применимое русскими в качестве основной характеристики любого китайского поселения, используется и в отношении «иностранного» Шанхая. Муравейник речных судов от долбленых лодок и джонок до паровых катеров и американских пароходов и муравейник людской [1] — вот что характеризует этот космополитический город [11], но в этом «странном» месте, вызывающем «чувство полнейшей и совершеннейшей безопасности, … подымаются вдруг какие-то тоскливые мысли и чувства, весьма далекие от этих образцово содержимых улиц» [1]. Этому утверждению вторит В. В. Крестовский, еще недавно описывая Шанхай как праздник: «по вечерам публика из Английского участка и в течение двух часов изображает собою нечто в роде похоронной процессии, медленно и молчаливо двигаясь в одну сторону по кругу», а «серо- и белопиджачные джентльмены в пробковых шлемах покойно лежат себе с сигарами в зубах, задрав кверху ноги и апатично созерцают блуждающую мимо их похоронную публику. Скука надо всем этим царит невообразимая, чисто английская, как и должно, впрочем, быть на каждом фешенебельном, специально английском собрании», а после европейские улицы Шанхая «погружены в угрюмое безмолвие». «Но увы!, — восклицает В. В. Крестовский, — это все та же Европа, уже порядком прискучившая вам и у себя дома... А вы как турист ищете совсем другие краски и другие впечатления... Впрочем, не отчаивайтесь: это только наружная, показная сторона Шанхая» [6].
На окраинах европейских, «внутренних улиц» английского и французского кварталов располагаются китайские лавки и китайские рестораны, а на чисто китайской улице американского участка с лавочно-торговым характером продавались бумажные фонари, зонтики, шелковые кисти, там плетеные и поярковые шляпы, тут свиные окорока или восковые и сальные свечи, здесь резные и точеные изделия, трости, игрушки, модели сампангов и джонок [6].
Китайские же кварталы/предместья мало чем отличаются от китайских глубинных городов, «состоящих из низеньких, грязных, тесно слепленных между собой лачуг из бамбука и тростника, кое-где обмазанных глиною, наполненных китайскими мастеровыми и лавочниками» [10]. «Эти собрания лачуг прорезаны улицами не шире сажени, вымощенными плитами, по которым с утра до вечера, несмотря ни на какую погоду, течет взад и вперед толпа народу в синих, подстеганных ватой бумажных балахонах, в черных и серых низеньких поярковых шляпах с приподнятыми полями, в суконных башмаках с толстейшими подошвами, с длинными косами, с реденькими бородками и длинными, книзу опущенными усами», но увидеть этот китайский город можно только, когда «подойдете чуть не вплотную к его древней кирпичной стене с бойницами и стрельницами» [6]. Застенный город «не представляет собственно ничего особенно достопримечательного ни сам по себе, ни по произведениям местной промышленности; да и слишком уж бледен этот туземный Шангай после тех городов Южного Китая, какие мне довелось видеть. Он интересен только по необыкновенно сильному контрасту его архаического вида и склада жизни в сравнении с европейским Шангаем: здесь — конец 19-го столетия, европейского 19-го столетия, с его широкой терпимостью, свободой мысли и слова, со стремлением дать человеку простор как можно полнее и шире проявить свою индивидуальную личность, с его забо- тами о лучшем устройстве человеческой жизни, об ограждении ее от различных вредных влияний, с колоссальными успехами техники, этого торжества разума над грубыми силами природы; там — средние века, со всей их грязью, грубостью, бесправием, презрением к человеческой личности, безграничной властью предания и авторитета». Собственно этой пространной цитатой из текста В. Д. Черевкова можно и закончить образ Шанхая в восприятии русского путешественника [11], но с небольшой ремаркой. Наши «форестьеры» 1 в своих описаниях не избежали некоей стереотипизации: французы — развлечение, англичане — фешенебельность и spleen, с американцами сложнее, в качестве маркера выступают небоскребы (sky-scrapers (небоцарапатели), а также «веками выработанной да на том однажды и застывшей «китайщины». Именно потому что европейский Шанхай «зарабатывает свой хлеб в поте лица (и в буквальном, и в переносном значении этого слова): это — общество тружеников, день-деньской занятых в многочисленных конторах, торговых заведениях, фабриках и проч.», не все стереотипы срабатывают, здесь «нет даже китайской знати, вся эта роскошь, все что мы видели блестящего и изящного здесь, — роскошь денежных тузов, коммерсантов, предпринимателей, подрядчиков, агентов, банкиров» [1].
Второй аспект, часто встречающийся в текстах, — взаимоотношения между европейцами и китайцами. По словам В. А. Римского-Корсакова, «положение европейцев в Шанхае вовсе не такое жалкое, как в Кантоне, и в китайском народонаселении вовсе нет той ненависти к иностранцам, что в ЮгоВосточном Китае; оно здесь гораздо смирнее. Зато европейцы гораздо храбрее: гадко смотреть подчас, как иной гражданин свободной и филантропической Англии тузит с плеча какого-нибудь слугу-китайца… Часто сквозь … безобидную трудолюбивую толпу прорывается энергическою поспешною поступью дюжая, вскормленная фигура англо-саксонского типа без церемонии оттаскивает одних в сторону за косы, других подталкивает пинками, третьим топчет ноги» [10].
Комментируя сочинение В. Обручева, редактор журнала «Современник», пишет: «Этим именем называют несчастных китайского пауперизма, которых европейцы нанимают для самой тяжелой работы по контракту на несколько (преимущественно на 8) лет. С ними обращаются хуже, чем с невольниками, потому что меньше боятся их смерти. Кулии передаются наемщикам совершенно как вещь. Китайское правительство с неудовольствием смотрело на эмиграцию кулиев, но по пекинскому договору Франция вытребовала себе право заниматься этим видом невольничьего торга…» [7]. Вообще в торговых городах, как сообщает И. Гошкевич, в повозки или портшезы «впрягают по два китайца, что обходится, без сомнения, дешевле лошадей, а в нравственном смысле они здесь унижены до скотского состояния и ничем не лучше любого невольника». «Не раз бедный кули (развозчик) получал побои от встречного денди за то, что не успел вовремя посторониться или потому что последнему просто захотелось употребить в дело свою тросточку», или пото- му что «взял за куртку джентльмена», что было воспринято как «оскорбление, нанесенное плетью», требующее наказания [4]. Ответ на вопрос, почему это происходит, почему цивилизованный европеец не видит в своих действиях ничего зазорного, вполне прост: «Европейцу, начиненному своими условностями, которые он принимает за абсолютную норму, все несовместимое с его привычками кажется странным до дикости, глупым и смешным… И как горды подобные люди, «интеллигенты», своей европейской цивилизацией, народом, обычаями и вообще всем!» [2], добавить к этому, пожалуй, что-либо сложно. Но и китайцы, представители древнейшей цивилизации, смотрят на европейцев свысока: «Китайцы всегда смотрят на европейцев с соболезнующею усмешкой — как бы говоря: ах вы, потешные, тоже в нашу страну приезжаете, бедные дикари!» [5]. Этнические различия всегда вызывали некие противоречия и непонимание со стороны более высокой, с собственной точки зрения, цивилизации. Мы уже продемонстрировали ранее, как изменялись в течение века представления русских по мере узнавания Китая, его традиций, обычаев, повседневной жизни. В завершение этого аспекта обратимся к рассуждениям В. Обручева: «Обстоятельства внешней жизни имеют огромное влияние на наши суждения, и потому мы еще раз повторим наше искреннее сомнение в высоком превосходстве наших обычаев перед китайскими» [7]. Кстати сказать, мысль до сих пор не устарела в применении к народам с разной цивилизационной ориентацией!
Третий — отражение взаимного влияния европейской и китайской культур. Можно ли поставить вопрос о диффузии? Скорее всего, нет. И то, что происходило в этот промежуток времени, лишь вынужденная ситуация. По сути, речь может идти об исключительно прагматическом использовании Китаем технических достижений Запада, особенно в военной сфере, обратное же воздействие не обнаруживается. Есть ряд явлений, зафиксированных русскими путешественниками, в основном внешних, касающихся повседневной жизни, но, как правило, либо вызывающих недоумение, либо улыбку.
Размышляя о доме китайца, в котором сам побывал, В. В. Крестовский пишет: «Попортил себе человек свою прекрасную национальную обстановку пошлою европейскою дрянью и воображает, поди-ка, что это и не весть как хорошо! Конечно, он покупает то, что видит, и не его вина, если по части изящного сюда не привозят ничего кроме подобной дряни» и выводит, «изо всей этой обстановки я заключаю, что и у китайцев есть иногда такое же пристрастие к европейским вещам и «редкостям», как у нас к китайским и вообще азиатским», или «двухэтажный деревянный дом в полуевропейском, по-лукитайском стиле», внутри «та же смесь китайского с европейским, как и в архитектуре самого здания» [6]. Можно привести еще один пример китайского дома, но уже в Цзинаньфу: «огромное европейское здание… В гостиной сразу же бросается в глаза смешение стилей Европы и Китая. Висят часы, но... так, чтобы была пара часов в полной симметрии (дуй). Европейская мебель расставлена на китайский лад, т. е. по стенам, одна вещь к другой» [2].
Не менее интересный случай приводит К. А. Вяземский: «По пути мы встретили куриозную штуку — китайца, переодетого европейцем. Китаец этот ехал с товарищем и чему-то очень радовался, улыбка не сходила с его лица; поравнявшись с нами, он развязно раскланялся и подмигнул нам», как и довольно часто, описывая миссионеров, упоминается об использовании ими китайского платья, особенно карикатурно выглядит китайская одежда на корпулентных женщинах. Однако если европейцы надевали китайский костюм, чтобы вызвать доверие, то китаец в данном случае для того, чтобы, как европеец, не платить пошлину на привезенный товар, т. к. «таможенные чиновники часто их не узнают и пропускают» [2].
Стремление европеизировать Китай, стремление к глобализации лишь усиливает желание сохранить свои традиции, остаться на позициях национального: «Как все своеобразно в этой далекой стране, … какой свежестью и силой веет от этого странного мира, стоящего на пороге встречи двух совершенно различных рас и культур!.. тем величавее становился образ этого аванпоста европейской цивилизации на крайней оконечности азиатского материка, … рельефнее выступали многие оригинальные особенности китайского быта и китайского племени» [1].
В завершение этой сюжетной линии хотим процитировать слова итальянского журналиста, написавшего их в 1907 г. во время второго посещения Китая, который спустя 7 лет увидел Пекин со словами: «Китай делает успехи», но внимательно присмотревшись, заметил: «При всех нововведениях, которые произвели на меня такое сильное впечатление, были, так сказать, только узники, запертые в своего рода учреждении для европеизации; они не выходили за стены жилого квартала, который также был сильно укреплен. Вокруг лежал нетронутый, всегда неизменный, огромный город, Пекин давно минувших веков» и дальше: «Нет ничего европейского, что может удивить сына небес» [3, с. 26]. И завершить словами В. В. Крестовского: «Этот китайский мир, проживший несколько исторически достоверных тысячелетий своею собственною жизнью, пожалуй, и имеет некоторое основание смотреть с недоверием на такую, сравнительно молодую цивилизацию, как европейская, с ее конституциями, революциями, социализмами, нигилизмами и прочим».
Таким образом, находясь в Китае с различной целью, каждый русский деятель стремится не только зафиксировать внешний колорит «иностранного» города, пытается постичь его суть, подметить специфику и высказать свою точку зрения на обстоятельства, в которых оказался. Особенность текстов, использованных травелогов в том, что в каждом из них воссоздается одинаковая картина увиденного, их роднит похожие восприятие и оценка китайского города в целом и его сеттльмента в частности. Несмотря на активный наступательный характер европейской цивилизации она не оказала существенного влияния на многовековой китайский тренд, поскольку, во-первых, длительность и непрерывность китайской культуры создала прочные традиции развития на ментальном и материальном уровне, во-вторых, иноземное влияние было локально ограничено и, в-третьих, ставило вполне конкретные колониальные цели.
Список литературы «Иностранные» города Китая: Шанхай в отечественных травелогах второй половины XIX - начала XX в
- Алексеев П. С. Из путевых записок на Дальнем Востоке. Два дня в Шанхае // Русский вестник. 1898. № 7. URL: http: www.vostlit.info (дата обращения: 01.10.2024). Текст: электронный.
- Алексеев В. М. В старом Китае. Дневники путешествия 1907 г. Москва, 1958. URL: http: www.vostlit.info (дата обращения: 01.10.2024). Текст: электронный.
- Барзини Л. Гонка по Азии и Европе за шестьдесят дней. Лейпциг: А. Ф. Брокгауз, 1908. 588 с. Текст: непосредственный.
- Вяземский К. А. Путешествие вокруг Азии верхом // Русское обозрение. 1894. № 9; 10; 1895. № 2; 7; 8; 9. URL: http: www.vostlit.info (дата обращения: 01.10.2024). Текст: электронный.
- Гошкевич И. Хонкон. (Из записок русского путешественника) // Труды членов Российской духовной миссии в Пекине. 1857. Т. 3. URL: http www.vostlit.info (дата обращения: 01.10.2024). Текст: электронный.
- Крестовский В. В. В дальних водах и странах // Русский вестник. 1885. № 1; 2; 4; 6; 7; 9; 11; 12; 1886. № 1‒3; 5‒8; 10; 11; 1887. № 3‒7. URL: http: www.vostlit.info (дата обращения: 01.10.2024). Текст: электронный.
- Обручев В. Китай и Европа // Современник. 1861. № 1. URL: http://www.vostlit.infoт (дата обращения: 01.10.2024). Текст: электронный.
- Паликова Т. В. Восприятие Востока в эпистолярном наследии путешественников в Китай и Монголию в XIX — начале ХХ в. // Вестник Бурятского государственного университета. Гуманитарные исследования Внутренней Азии. 2018. № 2. С. 68‒76. Текст: непосредственный.
- Паликова Т. В. Городское пространство Внутренней Азии в травелогах российской ориенталистики XIX — начала ХХ в. // Вестник Бурятского государственного университета. Гуманитарные исследования Внутренней Азии. 2021. № 1. С. 3‒19. Текст: непосредственный.
- Римский-Корсаков В. А. Письма о Китае // Новый мир. 1956. № 6. URL: http:www.vostlit.info (дата обращения: 01.10.2024) Текст: электронный.
- Черевков В. Д. По китайскому побережью // Исторический вестник. 1898. № 12. URL: http: www.vostlit.info (дата обращения: 01.10.2024) Текст: электронный.