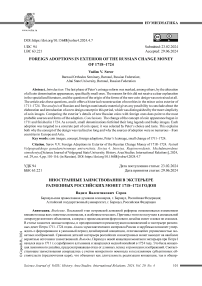Иностранные заимствования в экстерьере разменных российских монет 1718-1724 годов
Автор: Серов В.В.
Журнал: Вестник ВолГУ. Серия: История. Регионоведение. Международные отношения @hfrir-jvolsu
Рубрика: Нумизматика
Статья в выпуске: 4 т.29, 2024 года.
Бесплатный доступ
Введение. Последний этап петровской денежной реформы ознаменовался изменением внешнего вида всех монетных номиналов, в особенности мелких. Причины этого не получили в специальной литературе внятного объяснения, а вопрос о происхождении форм нового дизайна монет и вовсе не ставился. В статье задаются данные вопросы, и предпринимается реконструкция нововведений в экстерьере разменных денег Петра 1711-1724 годов. Анализ нумизматического материала России и зарубежья позволяет утверждать о формировании в указанный период дизайнерской концепции, отличающейся упрощенностью монетных изображений. Сравнение деталей экстерьера российских и иностранных монет выводит на наиболее вероятные источники заимствований.
Монетные изображения, концепция, зарубежные заимствования, денежное дело петра i, разменная монета 1711-1724 годов
Короткий адрес: https://sciup.org/149146330
IDR: 149146330 | УДК: 94 | DOI: 10.15688/jvolsu4.2024.4.7
Текст научной статьи Иностранные заимствования в экстерьере разменных российских монет 1718-1724 годов
DOI:
Цитирование. Серов В. В. Иностранные заимствования в экстерьере разменных российских монет 1718–1724 годов // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведе-ние. Международные отношения. – 2024. – Т. 29, № 4. – С. 101–116. – DOI:
Введение. Затянувшаяся денежная реформа Петра I, по распространенному мнению, завершилась прекращением чеканки проволочных копеек и резким увеличением монетной стопы медных номиналов, что сопровождалось значительным изменением их внешнего вида, наиболее ярким примером чего считается медный пятикопеечник. Он, как и копейка, претерпел в 1718–1724 гг. полную экстерьерную трансформацию. Кроме того, в этот же период заметно обновился внешний вид полушки , алтына и гривенника , которые лишились деталей прежнего орнамента и обрели новые, а также рубля и червонца , – у них полностью видоизменилось оформление оборотной стороны.
При этом в специальной литературе обычно не придается самостоятельного значения тому, что существенные перемены в экстерьере монет, концептуально оформившиеся в 1720-е гг., фактически начались задолго до 1718 г., считающегося началом последнего этапа петровской реформы [16, с. 42] 1. Принципы нового монетного дизайна стали формироваться еще в 1711 г., когда объектом преобразований послужил внешний вид алтына , чеканка которого возобновилась после семилетнего перерыва. Вместе с изменением наименования («алтынник» вместо «алтын») монета лишилась важных деталей первоначального оформления – букв БК и украшения в виде кругового венка на обеих сторонах. Тем самым получила развитие концепция лаконичного дизайна, характерного для монет последнего десятилетия правления Петра Алексеевича. Эта концепция предполагала отказ от длинных легенд на мелких номиналах и от объемных и сложных натурных изображений.
Анализ. На примере алтына видно, как непросто совершался переход к новому типу оформления: титло над кириллической датой преобразовалось в некое украшение в верх- ней части реверса, которое вскоре, в свою очередь, заменили три так называемых трилистника, впоследствии преобразованные в троеточие; круговой венок заместился более простым «шнуровым» узором; на месте обозначения монетного двора (БК – то есть в ведении Приказа Большой Казны, уступившей данную функцию специальной комиссии Сената именно в 1711 г.) на короткое время появились инициалы минцмейстера (D + L), которые сменились тремя другими «трилистниками», исчезнувшими в 1713 году. В том же году монете было возвращено прежнее название алтын, что тоже следует считать проявлением общего стремления к упрощению композиционного построения. Это упрощение, означавшее удешевление производственного процесса, дополнилось существенным – почти вдвое – понижением пробы монетного металла.
Перечисленные мероприятия, вполне логичные и последовательные, не завершили поиска окончательного концептуального решения, которое должно было распространиться на все тогда производившиеся монеты. В 1718 г. алтын вновь стал официально именоваться алтынником, гербовый орел был заменен на более привычного для обывателя всадника с копьем, что означало попытку отхода от принятого курса на максимально лапидарный стиль и поставило под сомнение необходимость в дальнейшем существовании данного номинала. Однако его чеканка прекратилась не только и не столько из-за этого. По-видимому, как монета алтын оказался нежизнеспособен в силу невозможности извлекать желаемую прибыль из его эксплуатации в денежной системе тогдашней России. Правительство выяснило, что с точки зрения наличной финансовой ситуации низкое содержание серебра в разменной монете весьма непрактично, а повышение его в условиях жесткой экономии ресурсов нерентабельно 2, и кон- цепция монетного дизайна здесь ни на что не влияла 3. На исходе петровского правления мелкую серебряную монету (копейку, алтын и пятак) вытеснила медная, оформленная в том же дизайнерском стиле.
Одним из характерных признаков этого стиля было использование счетных точек, или «бусин». Впервые появившиеся на алтыне в 1713 г. (рис. 1), они позднее были использованы в экстерьере копейки, пятикопеечника, гривенника, а в рамках авантюрного меншиковс-кого проекта – даже на полуполтинах . Считается, что многоточия такого рода являлись дополнительным к словесному числительным обозначением номинала якобы для неграмотных подданных русского царя [14, с. 31]. Несмотря на кажущуюся очевидность подобного объяснения, оно порождает вопросы, на которые историография пока не дала ответов. В первую очередь, почему точки, а не что-то другое? Потом, зачем неграмотным и, скорее всего, не могущим уверенно считать людям количественное обозначение вдобавок к буквенному? И, наконец, имеется ли какой-либо иной нумизматический объект, послуживший образцом для заимствования подобного элемента оформления монетного пространства, или то была гениальная находка российских мастеров?
Известно, что «точкам» на серебряной «круглой» копейке и пятикопеечнике предшествовал другой счетный элемент – так называемые «палочки» (рис. 2). Соответствующее номиналу число таких палочек выглядит, как на некоторых европейских монетах того времени, достоинство которых, правда, не превышало четырех единиц 4. Возможность заимствования Петром I элементов монетного экстерьера, в том числе латинских графических символов, не вызывает сомнения, и получила подтверждение в современных исследованиях [6; 25]. Подтверждает это и само слово «монета», появившееся на российских деньгах в петровское время.
Рассмотренные с данной точки зрения «палочки» на копеечной и пятикопеечной монетках 1713 г. предстают римскими единицами (I) и символизируют попытки российского правительства перейти в денежном деле к обозначению достоинства монет цифрами. Отказ от такой своеобразной латиницы в пользу универсальных «точек» мог быть мотивирован различными обстоятельствами 5, но наиболее вероятной причиной использования точек-бусинок следует признать стремление к более простому внешнему оформлению и, как следствие, ускорению и удешевлению производства массовой монеты. Подобное предположение подтверждается изменениями в дизайне петровских монет, имевшими место в период с 1711 по 1724 год. Вырезать «точки» на штемпеле было технически проще, чем римские единицы, и «точечная» форма цифири при обозначении номинальной стоимости закрепилась на мелких (во всех смыслах слова) деньгах более чем на десятилетие. Однако остается не вполне ясным, почему счетные палочки в таком случае не появились и на алтыне. Очевидно, впрочем, что объяснение этой загадки должно опираться на наличие труднопреодолимого препятствия в виде неопределенности термина «алтын» в системе традиционных народных представлений в России [18]. До 1713 г. алтын, как и будущий пятак, мог выражаться в денгах, а не в копейках; на это намекает и число «трилистников» на реверсе алтынника 1711–1712 гг. выпуска. В конце концов, формирование единообразного экстерьера устранило разночтения в передаче на монетах их номинальной цены, и впоследствии на них уже указывались номиналы, кратные исключительно копейке, либо ее фракции.
История со счетными символами вплотную подводит к вопросу о поводе, который мотивировал использование в денежном деле петровского времени перечисленных суррогатов обозначения монетного номинала. Официальное объяснение, что подобная мера служила удобству неграмотного участника денежных отношений, появилось только в 1735 г., предпосылалось только гривеннику 6 и мало что объясняет по существу: во-первых, безграмотные не умели как читать, так и считать, а, во-вторых, даже необразованный люд всегда был способен при необходимости быстро запомнить, как выглядит любая денежная единица, и легко различал их в общем потоке денежных отношений 7, тем более что о монетах нового вида объявлялось повсюду 8. Поэтому наиболее правильным ответом на поставленный вопрос будет признание «пало- чек» и «точек» частью концептуально проработанного композиционного построения монетного пространства, в значительной мере заимствованного за рубежом. Если принять этот ответ, то останется определить, экстерьер каких зарубежных монет мог бы повлиять на выбор «точек» для обозначения номинала русских денег 1710–1720-х годов.
Важно заметить, что у Петра I и его ближайших советников был доступ к обширному нумизматическому материалу, который доставлялся в страну целенаправленно, нередко по прямому указанию царя 9. Задавшись целью подобрать желаемый вариант оформления, в данном случае – временный элемент, обозначающий нарицательную стоимость, царь должен был организовать целенаправленный поиск подходящего образца. Судя по «трилистникам» на алтыннике 1711–1712 гг. и «палочкам» на пятикопеечнике 1713 г., этот поиск не был скорым 10. Очевидно, в Европе не нашлось прототипов суррогатных счетных символов, так как европейские монетные сеньоры не утруждались обеспечением идентификации новых денег неграмотным населением своих государств и обходились традиционными цифровыми и буквенными обозначениями. Поэтому в России идея употреблять «точки» для обозначения номинала монеты была взята не из какого-то конкретного образца, но из самой практики использования точки в качестве декоративного элемента 11. Применение его в сгруппированном виде в качестве дублирующего обозначения стоимости монеты едва ли преследовало специальную цель дидактического свойства. Скорее, подобные многоточия являлись частью общей экстерьерной композиции.
Сказанное дополнительно объясняет, почему подходы к решению единой задачи оформления внешнего вида разных номиналов в ходе петровской денежной реформы были различны и разрабатывались не одновременно. Монеты с заметно обновленным экстерьером появлялись начиная с 1711 г., в течение тринадцати лет: за алтыном последовали пятикопеечник и копейка, потом – гривенник, полушка, червонец, рубль и, наконец, вновь пятикопеечник и копейка, на этот раз в меди. Каждый из этих случаев заслуживает отдельного рассмотрения с точ- ки зрения единой концепции и конкретной реализации. В настоящей статье рассматриваются случаи разменных монет.
Дизайн мелких серебряных номиналов от копейки до гривенника оформился в 1713– 1718 годах. Он включал, помимо уже рассмотренных счетных элементов («точек»), буквенное обозначение номинала и цифирное – даты на реверсе, и гербового орла с тремя коронами – на аверсе. В 1718 г. к этой группе присоединилась полушка , во внешнем оформлении которой по понятной причине не было счетных точек, но взамен над наименованием цены были поставлены буквы ВРП – аббревиатура, не несущая особенной смысловой нагрузки и потому кажущаяся избыточной, если не принимать, что в той дизайнерской концепции пространство над обозначением номинала должно было заполняться каким-либо декоративным элементом, желательно несложным. Поэтому и точки, и буковки в этом месте перечисленных монет – это не вполне самостоятельные детали общей экстерьерной конструкции, какой бы смысл в них ни закладывался (рис. 3).
Перечень элементов и описанная схема их расположения на монетном поле не являлись редкостью в европейском денежном деле. Аналогичное композиционное построение (конечно, с учетом различия символов суверенитета) встречается, к примеру, на разменных монетах германских и нидерландских эмитентов начала XVIII века 12. Примечательно, что на всех известных зарубежных аналогах пространство над буквенным обозначением номинала заполнено какими-либо декоративными элементами – украшениями в виде точек, звездочек и розеток, римскими цифрами или инициалами. Тем самым дизайн разменной российской монеты образца 1713– 1718 гг. был заимствован Петром в Европе целиком, как матрица, все элементы которой должны присутствовать на своих местах. С данной точки зрения дизайнеру гораздо проще было поменять изображение лицевой стороны (гербового орла на всадника, например), нежели отказаться от принятого украшения вверху реверса.
Однако с 1723 г. дизайн разменной монеты был радикальным образом пересмотрен. Базовый принцип стилистической лапидарно- сти остался неизменным, но признанная в правительстве перспективной идея уменьшения содержания серебра в субсидиарных деньгах достигла логической завершенности, что выразилось в прекращении чеканки даже низкопробного алтына и гривенника, а также в переходе к чеканке только медных копейки и пятикопеечника. Для этих последних пришлось разрабатывать новый внешний вид, опираясь на прежние принципы простоты композиционного построения 13 и зарубежного заимствования.
Внешний вид пятикопеечной монеты, которая заслуживает преимущественного внимания ( копейку образца 1724 г., имевшую сходную организацию экстерьера, перестали чеканить в том же году), исчерпывающе описан в сенатском указе, введшем ее в оборот: «...с одной стороны в середине изображен Его Величества герб мелкою резьбою и около того герба пять точек , а на другой стороне крест и в нем год и ...литерами пять копеек , и по ребрам того пятикопеечника учинить тисненныя рубежки...» [11, т. VII, № 4276, с. 96] (курсив наш. – В. С. ). В этом описании указаны все обязательные элементы экстерьера, фактическое расположение которых на поле монеты отдавалось на волю дизайнера, а потому, вероятнее всего, приняло окончательный вид под влиянием внешних заимствований, коль скоро собственный российский опыт не имел ничего подобного описанному (рис. 7, а–б ).
Указанные элементы образуют оригинальную для петровского денежного дизайна композицию с символом государственного суверенитета в центре, окруженным широким круговым полем, преимущественно чистым; на этом свободном монетном поле, занимающем более половины общей площади гербовой стороны, находятся пять крупных выпуклых точек, размещенных на равном расстоянии друг от друга и от края монеты. Похожий дизайн аверса встречается как на западных, так и на восточных монетах. Примером среди первых может служить сольдо тосканского герцога Козимо III [26, p. 1098], среди вторых – иранский фальс Гусейна I [26, № 96, p. 965] и серия османских аббаси. Все они в равной степени претендуют на роль концептуального прототипа и источника детальных заимствований в оформлении аверса медного пятикопеечника.
Три кватрини 1710 г. (рис. 8, а–б ) несут на аверсе герб Великих герцогов Тосканы из рода Медичи, главным элементом которого являлось шеститочие в виде расставленных по окружности стилизованных медицинских пилюлей. На монетном поле эти точки-пилюли также занимают главное место, визуально оттесняя прочие детали декора. Поэтому, несмотря на то что поле вокруг них не вполне свободно, шеститочие (с короной, венчающей верхнюю «пилюлю» и потому нивелирующей ее, что при мимолетном взгляде создает эффект пятиточия) выглядит как самостоятельный элемент экстерьера.
Именно такой вариант оформления аверса пятикопеечника , одобренный Петром I, весьма вероятно, оформился при непосредственном знакомстве российского монетного дизайнера (которым мог оказаться и сам царь) с образцами италийской денежной системы, конкретно – с деньгами Тосканского герцогства, которые попадали в Россию благодаря тесным российско-итальянским контактам 14. Идея с размещением в центре монетного поля принципиально значимой детали оформления, окруженного чистым пространством, также могла прийти из Италии 15.
Что касается «восточных» прототипов, то на их роль претендуют любые мусульманские монеты с так называемой тугрой – принципиальной деталью экстерьера лицевой стороны. Обычно этот персональный знак правителя находился в центре монетного поля в окружении пустого пространства (рис. 10). Однако Россия в петровскую эпоху имела регулярные контакты лишь с Ираном и Османской империей, деньги которых, соответственно, не могли не оказаться в центре внимания заинтересованного наблюдателя 16. Кроме того, восточного происхождения могла оказаться и идея использовать в оформлении крупные точки, которые на мусульманских деньгах часты и очень заметны как в составе легенд, так и, особенно, в круговом декоре медных, серебряных и золотых монет 17. Россия, торговавшая и воевавшая при Петре и с Турцией, и с Ираном, получала искомые нумизматические образцы через посредничество купцов, военных и дипломатов [5, с. 253, 266; 7, с. 6, 45 сл.; 10, с. 48].
Кроме этого, нельзя игнорировать и опосредованное воздействие, которое оказывал на заинтересованного дизайнера внешний вид монет иной страновой принадлежности, но выражающий, пусть и не столь явно, ту же самую концепцию со значительным свободным полем вокруг небольшого центрального элемента, и с равноудаленными от центра несколькими равновеликими деталями. Из контрагентов петровской России такими монетами обладали Китай и Швеция.
Широко известны в России были, например, медные шведские платы – плоские слитки прямоугольной формы, удостоверенные круглым клеймом по углам и в центре (рис. 12). Их расположение схематически воспроизводит композиционное построение деталей на аверсе петровского пятикопеечника типа 1723 года. Возможность такого заимствования тем более реальна, что российское правительство в 1720-е гг. проявляло все более усиливавшийся интерес к экономической и денежной политике Шведского королевства, достигшего позитивных результатов в преодолении кризиса [9, с. 263; 23].
Дизайн массовых китайских денежных единиц, так называемых цяней , так же включал центральный элемент малого размера (в данном случае это квадратное отверстие) и крестообразно (на равном расстоянии друг от друга) расположенные вокруг него элементы, обозначающие условные номинал («ходячая монета») и дату (период правления конкретного императора) (рис. 13, а ). На оборотной стороне иногда размещались круглые точки, уточнявшие номинальную стоимость монеты [26, № 128, p. 155; № 272, p. 161] (рис. 13, б ). Контакты Российского царства и Цинской империи являлись редкими, но носили преимущественно торговый характер и были очень интересны российской стороне, благодаря чему неплохое представление о китайских средствах обращения, их внешнем виде и стоимости у русских сложилось еще в конце XVII в. [17, с. 211, 214]. В правление Петра Великого отношения с Китаем заметно расширились [20, с. 189–190; 24, с. 123], причем, очевидно, не в последнюю очередь благодаря личной заинтересованности в этом царя 18.
Таким образом, заимствования в оформлении лицевой (гербовой) стороны российс- кой монеты достоинством пять копеек образца 1723 г. конкретны и хорошо прослеживаются. Что же касается внешнего вида ее оборотной стороны, оформленной в том же лапидарном стиле, то нельзя не признать очевидность его несколько большей независимости от иностранного влияния.
Все изображение реверса – это две надписи внутри перекладин прямого креста. И если идея использовать в дизайне монеты крест с «полыми» перекладинами была реализована давно и многими монетными сеньорами (к примеру, на том же сольдо Козимо III), то замысел поместить внутрь его лепестков буквенное обозначение номинала и дату цифрами воплотился в рассматриваемом пятаке, кажется, впервые в мировой истории. Нечто похожее можно было увидеть на весьма редкой монете, отчеканенной в герцогстве Бра-уншвейг-Вюльфенбюттель в 1622 г. [26, № 338–339, p. 444] 19, а также при желании усмотреть в крестообразно расположенных иероглифах дальневосточных монет, особенно если учесть вышеупомянутое знакомство русских с китайскими денежными средствами. Кроме цяней , денежную систему Китая составляли тогда серебряные и золотые слитки ( ланы ), на внутренней поверхности которых иероглифические надписи оттискивались внутри продолговатых прямоугольных углублений, напоминающих перекладину креста (рис. 14) (см., например: [3]). Царские казна и монетные дворы достаточно близко познакомились с этими слитками уже к началу XVIII в. [22], так что нет ничего невероятного в предположении, что отдельные детали их композиционного построения могли быть использованы при разработке дизайна российских монет. В противном случае, в отсутствие иных вариантов заимствования идеи с надписями внутри креста, источником подобного заимствования следует признать объект не нумизматической принадлежности 20, что маловероятно.
Формулируя выводы, следует отметить, что для экстерьера российских разменных монет 1711–1724 гг. выпуска был характерен лаконичный дизайн, разработанный из сугубо практических видов. Аскетический характер оформления стал универсальной идеей, своеобразной концепцией в тогдашнем денежном деле. Под нее подстраивались все зарубежные заимствования, без которых оформление экстерьера петровских монет было немыслимо.
«Экономичный» дизайн предполагал малое количество деталей изображения на обеих сторонах монеты, значительное свободное пространство в монетном поле, отказ от длинных легенд и сложных изображений (кроме государственного герба, предельно схематизировать который едва ли допускалось). Работа в рамках данной концепции привела к появлению всех известных нумизматам особенностей в оформлении разменных монет того времени – «точек», арабской цифири взамен славянских буквиц, почти полное отсутствие легенды титулования Петра Алексеевича.
Выявление источников заимствования позволило воссоздать многосложную картину, состоящую из географических и нумизматических элементов, то отдельных, то группирующихся вокруг какой-либо концептуальной идеи (например, значимая деталь экстерьера в центре свободного от изображений пространства, или минимальный набор деталей оформления реверса – номинал, год и рудиментарный декор). В отличие от монет 1700–1701 гг. выпуска, где иностранные заимствования носили комплексный характер, так что прототипы всех номиналов, в общем, легко угадываются, в выпусках 1711–1724 гг. некоторые экстерьерные детали и идеи проходили более глубокую «русификацию» или вовсе рождались опосредованно, через аллюзии и ассоциации, приобретая тем самым авторский характер. Из-за такого извилистого пути от прототипа до известной композиции оказывается весьма затруднительно выявить конкретный источник определенного заимствования.
Тем не менее проведенные сравнения нумизматического материала первой четверти XVIII в. и анализ обстоятельств внешнеполитического и экономического характера, влиявших на денежную политику Петра I, позволяют достаточно уверенно локализовать географию иностранных заимствований в указанный период территорией Средней Европы (Германскими и Итальянскими государствами, находившимися в орбите российских интересов), включая Соединенные провинции, и крупнейших государств Азии, граничивших с Россией (Иран, Турция и Китай).
Список литературы Иностранные заимствования в экстерьере разменных российских монет 1718-1724 годов
- Винокурова Э. П. Металлические литые кресты-тельники XVII века // Культура средневековой Москвы. М.: Наука, 1999. С. 326–361.
- Еропкин В. В. Посылка Петра Беклемишева во Флоренцию в 1716 г. // Русская старина. 1903. Т. 115, вып. 8. С. 479–480.
- Ивочкина Н. В., Невский Н. А. Китайские ланы-таэли и их части // Труды Государственного Эрмитажа. Т. XXI. Л.: Искусство, 1981. С. 173–185.
- Калинин В. А. О пробных пятикопеечниках 1723 г. // VII Всероссийская нумизматическая конференция. М.: ГИМ, 1999. С. 143–146.
- Крылова Т. К. Русско-турецкие отношения во время Северной войны // Исторические записки. М.: АН СССР, 1941. Т. 10. С. 250–279.
- Лепёхина Е. В. Две денги 1700 г. с латинской легендой из Кунсткамеры // II Всероссийская нумизматическая конференция. СПб.: Гос. Эрмитаж, 1994. С. 23–25.
- Лысцов В. П. Персидский поход Петра I 1722–1723. М.: Изд-во МГУ, 1951. 248 с.
- Молодченко О. А. Русско-итальянские связи в эпоху Петра I: дис.... канд. ист. наук. Ростов н/Д, 2021. 272 с.
- Некрасов Г. А. Торгово-экономические отношения России со Швецией в 20–30-х годах XVIII в. // Международные связи России в XVII–XVIII вв. / отв. ред. Л. Г. Бескровный. М.: Наука, 1966. С. 259–290.
- Огуй А. Прутский поход Петра I и особенности денежного обращения Молдавии и Буковины // Русин. 2011. № 1. С. 44–51.
- Полное собрание законов Российской империи. Собрание Первое. 1649–1825 гг. СПб.: Тип. II Отд-ния император. канцелярии, 1830. Т. I–XLV.
- Попов Н. А. Путешествие в Италию и на остров Мальту стольника Толстого в 1697 и 1698 годах // Атеней. 1859. Ч. 2. 77 с.
- Путешествия стольника П. А. Толстого по Европе (1697–1699) / под ред. Л. А. Ольшевской. М.: Наука, 1992. 387 с.
- Рзаев В. П. Загадки российской нумизматики. М.: Хобби Пресс, 2011. Т. I. 287 с.
- Саверкина И. В. История частного коллекционирования в России. СПб.: Изд-во СПбГУКиИ, 2004. 192 с.
- Семенов В. Е. Монетное дело Российской империи. СПб.: Конрос-Информ, 2010. 184 с.
- Скачков П. Е. Ведомость о китайской земле // Страны и народы Востока. 1936. Вып. II. С. 206–219.
- Трутовский В. К. Алтын, его происхождение, история, эволюция. Экскурс в историю древних русских ценностей // Труды секции археологии РАНИОН. М.: [б.и.], 1928. Т. II. С. 131–137.
- Уздеников В. В. Переход на цифирь // XI Всероссийская нумизматическая конференция. СПб.: Гос. Эрмитаж, 2003. С. 207–209.
- Шафрановская Т. К. Путешествие Лоренца Ланга в 1715–1716 гг. в Пекин и его дневник // Страны и народы Востока. М.: АН СССР, 1936. Вып. II. С. 188–205.
- Ширяков И. В. Немного о зарубежных влияниях на развитие российской денежной системы в XVII в. // Нумизматические чтения ГИМ 2022 года. М.: ГИМ, 2022. С. 231–236.
- Ширяков И. В. «Червонные российские двухрублевые» в денежной системе при Петре I // Нумизматика. 2009. № 3. С. 40–42.
- Юхт А. И. Из наследия В. Н. Татищева. Материалы об экономическом положении Швеции в первой четверти XVIII века // История и историки. Историографический ежегодник. 1973. М.: Наука, 1975. С. 298–321.
- Яковлева П. Т. Русско-китайская торговля через Нерчинск накануне и после заключения Нерчинского договора (1689 г.) // Международные связи России в XVII–XVIII вв. / отв. ред. Л. Г. Бескровный. М.: Наука, 1966. С. 122–151.
- Serov V. The Adoption of European Norms in Peter I’s Russian Coinage of 1700–1701 // The Numismatic Chronicle. 2021. Vol. 181. P. 241–246.
- Standard Catalog of World Coins 1701–1800 / ed. by M. Thomas, T. L. Schmidt. 7th ed. Iola (Wi.): Krause Publications, 2018. 1474 p.