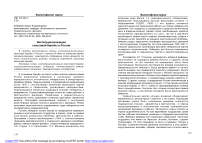Институционализация классовой борьбы в России
Автор: Зиберова Лидия Владимировна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 2, 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены этапы институционализации классовой борьбы в России с начала ХХ века по нынешнее время, проанализирована зависимость содержания этого процесса от того политического режима, который определял характер классовой борьбы
Институционализация классовой борьбы, социал-революционеры, либералы, тоталитарный
Короткий адрес: https://sciup.org/14932742
IDR: 14932742 | УДК: 316.482.3
Текст научной статьи Институционализация классовой борьбы в России
В отношении борьбы за власть новых классов царский режим России предпочитал репрессии и исключение, проявлял нерешительность относительно либерального и авторитарного примеров Запада. Переход режима к консервативной модернизации после 1905 г. способствовал появлению буржуазных партий компромисса и профсоюзов, руководимых реформистами. Повторяющиеся репрессии подрывали влияние либералов и реформистов. Социал-революционеры стояли во главе рабочего и крестьянского движений. Разделение и нерешительность придворной элиты сдерживали успешную адаптацию германской модели. Программа модернизации привела к внутренней дезинтеграции прежде лояльных дворянства и буржуазии. Режим испытывал недостаточность корпоративного ядра либеральных или консервативных модернизаторов.
Русские либералы начали борьбу за превращение правящего режима в конституционное государство в период, когда на первый план вышли социальные проблемы крестьянства и рабочих. Программа «Союза освобождения» (1904 г.) соответствовала традициям демократического и социального движения («всеобщее, равные, тайные и прямые выборы», «защита интересов трудящихся»). П.Б. Струве, С.Н. Прокопович, П.Н. Милюков находились под
Философские науки
влиянием идей Милля, т.е. демократического либерализма. Либерализм обосновывала русская философия истории. С образованием РСДРП (1898 г.) эти идеалы оказались недостаточными для привлечения рабочих на сторону либерального движения. Оно нуждалось в определении социально-политической цели в аграрном вопросе. Однако «Союз освобождения» оказался неспособным сформулировать эту цель, так как в движении преобладало правое крыло уездных землевладельцев, разрыв с которыми не мог произойти до решения конституционной проблемы. Земские съезды предложили платформу эволюционного движения к конституционному государству. Но после революции 1905–1907 гг. внешние предпосылки организации массовой либеральной партии оставались ограниченными. Либералы все больше оказывались изолированными от радикальных партий и идеологизированных групп.
Консерватор А.П. Столыпин, руководитель аграрной реформы, рассчитывал на поддержку режима богатых и средних слоев крестьянства, но его влияние на придворную элиту было неустойчивым. Внутреннее противоречие режима усиливалось нерешительностью Николая II. Когда монархия зависит от личных качеств монарха, она подвергается опасности разрушения. Внутри спектра авторитарной монархии Россия и Япония находились на противоположных полюсах: в России отсутствовала стратегия перехода к корпоративной монархии, и модернизация режима зависела от монарха. С другой стороны, в предвоенной России экономическая и военная модернизация проходили успешно. С точки зрения контроля классовой борьбы, в 1914 г. слабости трансформируемого режима были несущественны. Контроль был утрачен вследствие первой мировой войны, и российская монархия была революционно свергнута.
Сравнительный анализ четырех монархий обнаруживает вариативность авторитарной стратегии и ее успеха. Решающим критерием успеха было сохранение режимом лояльности традиционных классов – дворянства и крестьянства – в период инкорпорирования в политическую систему компромиссных организаций буржуазии и рабочих. Численность новых классов не играла существенной роли. Во всех европейских государствах, кроме Англии, рабочие организации нуждались в поддержке крестьянства, чтобы требовать реформы или осуществить революцию. Частичную поддержку они имели во Франции, Италии, Испании, странах Скандинавии. Но этой поддержки не было в Германии, Японии и Австрии. Социалистическое движение спотыкалось в этих урбано-индустриальных анклавах, перевес парламентских голосов имели
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer
Философские науки представители буржуазно-аграрных классов, радикальное движение подавлялось солдатами-крестьянами и офицерами-дворянами. Сочетанием частичных гражданских прав авторитарная монархия разделяла и властвовала, проводила выборочные репрессии, манипулировала различиями аграрных и буржуазных классов, оправдывала свое сохранение угрозой пролетариата. Большевики были первыми, кому удалось разрушить эту стратегию.
После Первой мировой войны возникшие тоталитарные режимы использовали две новые стратегии классовой классовой борьбы – нацизм и советский конституционализм. У тоталитарных стратегий имеются общие и отличительные черты. Тоталитарные режимы широко применяли репрессии, используя инфраструктурные ресурсы государства, и прокламировали идеологии насилия к враждебному окружению. Репрессии сочетались с переговорами. Режимы определяли группы принципиальных противников, с которыми переговоры невозможны. У нацистов этими группами были лидеры рабочих организаций, социалисты, либералы, евреи и другие неарийские народы. Для большевиков главным врагом были частные собственники. Другие заинтересованные группы стали государственными структурами либо находились под контролем государства. Военными методами велась постоянная борьба с «уклонистами», «перерожденцами», «ревизионистами» и «заговорщиками». Тоталитарные режимы не гарантировали экономических свобод, конституции служили демократическим фасадом автократических решений. Однако гораздо большее внимание уделялось социальному гражданству.
Безусловно, нацистский режим оказался глубоко нестабильным, что было вызвано геополитической установкой его лидеров на мировое господство. Нестабильность не была связана с классовой стратегией режима, в которой он преуспел в короткий промежуток времени. Рабочее движение было полностью подавлено. Его лидеры были репрессированы, организации – разгромлены и объявлены вне закона. От рабочих потребовали восхваления режима. За счет расширения государственных строительных работ и бесплатного труда политзаключенных решалась проблема безработицы. Многие программы трудовой занятости и социального обеспечения оказались неосуществленными и преследовали пропагандистскую цель. Буржуазия была ослаблена гораздо эффективнее, чем в кайзеровской Германии. Поворот экономики к милитаризму означал постоянство госзаказов. Не вся прибыль присваивалась прирученным классом, но только теми, кто был лоялен к режиму до его последнего дня.
В период сталинизма репрессивный компонент советской
Философские науки
стратегии институционализации классовой борьбы превосходил другие тоталитарные режимы. Тем не менее ее главное отличие состояло в социально-правовом компоненте. Советская стратегия отрицала личную свободу в формах экономического и либеральнодемократического гражданства и признавала социальное гражданство. Право на гарантированный уровень жизни ставилось в зависимость от экономического, политического и военного могущества государства. Бесплатные здравоохранение, занятия физкультурой и спортом, образование, государственное пенсионное обеспечение способствовали интеграции классов в систему советского конституционализма. Пределы этой стратегии обнаруживались по мере неспособности хозяйственной системы достигнуть западных стандартов потребления, о чем напоминали дефицит товаров и теневая экономика.
Тоталитарные режимы либо гибнут в военном конфликте, либо претерпевают трансформацию после смерти лидера-вождя. В СССР с 1953 г. до начала 1990-х гг. правящая власть осудила массовые репрессии и вела поиск новых форм хозяйствования, позволяющих реализовать социальную роль государства. Переход от советского конституционализма к демократическому конституционализму был вызван комплексом причин, главная из которых – проигрыш СССР «холодной войны».
Либерализация экономики и демократизация государства в 90х гг. произошли ценой потери прежней социальной интеграции общества. В многонациональной стране дезинтеграция приняла форму распада СССР. Нынешний режим России избрал либеральнореформистскую стратегию институционализации классовой борьбы. Ее, по-видимому, предстоит совершенствовать в условиях сохранения негативных последствий рыночной экономики для общества в виде роста имущественной дифференциации.
С точки зрения анализа не только негативных последствий, но и позитивных – экономического роста – необходимо обратить внимание на процесс легитимации предпринимательства.
Создание гражданского общества, ярким примером которого является предпринимательство как слой, требует функционирования соответствующих правовых институтов. Экономические и социальные принципы гражданского общества уже в силу самой своей природы не могут быть реализованы вне правового государства, без четко разработанных правовых норм, регулирующих отношения собственности, производства и распределения, взаимоотношения индивидов, в том числе предпринимателей между собой и с государством.
Легитимация предпринимательства в России и есть, собственно,
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer
Философские науки
становление нового правосознания, и даже шире – правовой культуры и этики, что, безусловно, укрепляет ростки гражданского общества, способствует усилению элементов правового государства. Важным звеном является институционализация правового статуса субъектов предпринимательской деятельности. Рынок и частная собственность требуют институционального обособления предпринимательской деятельности и влекут за собой легитимацию в обществе таких его структурных элементов, как «человек» и «гражданин». Тем самым придается юридический характер его практическим императивам. Представляется естественным появлением в Конституции РФ раздела с юридически введенным делением на права человека и права гражданина. Важной стороной этого процесса является институционализация способов судебного контроля, договорных отношений.
Ведь договор есть не что иное, как «процедурная определенность», которая с наибольшей полнотой передает суть современного (либерально-демократического) общества. Стремление справиться с неопределенностью процедур, то есть со всем набором рисковых значений для общества, составляет содержание нынешнего этапа развития России. В переходный период с политико-экономической точки зрения неопределенность результатов сочетается с неопределенностью процедур.
Процесс институционализации предпринимательства представляет собой приобретение этой самой определенности процедур.
Идеология частноправовой легитимации содержит идею правового вмешательства государства в рыночную экономику как средство реализации общественных интересов, а следовательно, предотвращения острой классовой борьбы. Этот процесс осуществляется через институционализацию норм предпринимательской деятельности государством, посредством которой происходит законодательное оформление правового положения субъектов хозяйственной деятельности.
Институционализация правового положения предпринимателей закрепляется в понятии «правосубъектность», т.е. правовом статусе, реализуемом посредством правоспособности и компетенции. Другим звеном процесса институционализации предпринимательства является легализация правового статуса субъектов предпринимательской деятельности, осуществляемая через механизмы государственной регистрации.
Результативность институционализации предпринимательства – это легитимный порядок, в котором защиту нарушенных прав и интересов осуществляет судебный контроль. Необходимым
Философские науки компонентом этого процесса являются досудебные и судебные альтернативные формы защиты прав и интересов предпринимателей. За пределами легитимного порядка находится аберрантная (Р. Мертон) – противоправная – защита прав и интересов субъектов хозяйственной деятельности. Она возникает вследствие утраты российским государством монополии контроля налогообложения и охраны правопорядка, в результате чего появляются конкурирующие и неподконтрольные государству источники насилия и инстанции налогообложения.
Какую бы роль ни играл предпринимательский корпус, его значение не сравнимо с влиянием на государство корпоративных структур. Как отмечают отечественные специалисты, в России 90 гг. сложилась модель олигархического корпоративизма. Олигархический корпоративизм выступает в качестве организации работодателя, а значит, является представителем сообщества бизнеса в институтах государственной власти. В настоящее время государство ужесточает контроль за использованием тех средств и ресурсов, которые находятся в его распоряжении, а также пытается ориентироваться на более эффективное согласование интересов различных социальных сторон.
В 1995 году был принят федеральный закон «О порядке разрешения коллективных трудовых споров». Закон подтвердил право на забастовку, гарантируемое Конституцией РФ (Ст. 37). Закон предусматривал порядок урегулирования конфликта между рабочими и предпринимателями. Так, в п. 5 говорится: «Если примирительные процедуры не привели к разрешению коллективного трудового спора, либо работодатель уклоняется от примирительных процедур, не выполняет соглашение, наемные работники вправе использовать собрания, митинги, демонстрации, пикетирование, включая право на забастовку». Таким образом, проявление классовой борьбы получает свою институционализацию. Происходит интегрирование в нормативное, институциональное русло конфликтных сторон.
Таким образом, институционализация классовой борьбы в России прошла несколько этапов. Содержание этого процесса находилось в объективной зависимости от того политического режима, который и определял характер классовой борьбы. Для современной же России ценен не только опыт предыдущих исторических периодов, но и западной традиции.
Список литературы Институционализация классовой борьбы в России
- Арбатов А. Национальная идея и национальная безопасность//Мировая экономика и международные отношения. 1998. № 5,6.
- Вехи. Из глубины. М., 1991.
- Гаджиев К.С. Геополитика. М., 1997.
- Парсонс Т. Система современных обществ. М., 1997.
- Перегудов С.П., Лапина Н.Ю., Семененко И.С. Группа интересов и российское государство. М.,1999.
- Lipset S.M. Consensus and Conflict: Essays in Political Sociology. N.Y., 1985.
- Marshall T.H. Citizenship and Social Class. London, 1963.
- Mann M. Ruling class strategies and citizenship//Sociology. 1987. Vol. 21. № 3.