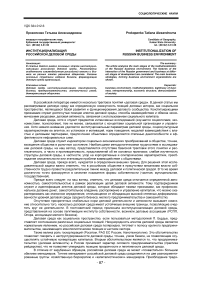Институционализация российской деловой среды
Автор: Прокопенко Татьяна Александровна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Социологические науки
Статья в выпуске: 8, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье дается анализ основных этапов институционализации российской деловой среды. Рассмотрены особенности взаимодействия российской власти и бизнеса на разных этапах развития общества. Указаны основные стратегии ведения бизнеса, формирующие деловую среду организаций.
Деловая среда, институционализация, легитимность бизнеса, предпринимательство, экономический уклад, демократизация общества
Короткий адрес: https://sciup.org/14933713
IDR: 14933713 | УДК: 334.012.6
Текст научной статьи Институционализация российской деловой среды
В российской литературе имеется несколько трактовок понятия «деловая среда». В данной статье мы рассматриваем деловую среду как определенную совокупность позиций деловых акторов, как социальное пространство, являющееся базой развития и функционирования делового сообщества. Конституирующими признаками служат достигнутые позиции агентов деловой среды, способы взаимодействия и обмена экономическими ресурсами, деловая активность, связанная с использованием социального капитала.
Деловая среда, хотя и служит предметом интенсивных исследований (изучается социологами, экономистами, психологами), тем не менее, связывается с концептами социальной организации и управления. Хотя немало внимания уделяется институциональным параметрам деловой среды, социокультурным характеристикам ее агентов, их установок и мотиваций, норм поведения, моделей взаимодействия с властью и деловыми партнерами, предпочтения объективно определяются степенью дееспособности и эффективности неформальных схем.
Деловая среда служит индикатором социально-экономических преобразований в обществе, точнее, вхождения общества в рыночное состояние. Наибольшими методологическими трудностями в исследовании деловой среды, на наш взгляд, представляется отсутствие базисной трактовки этого понятия и расплывчатость, а часто и противоречивость, представлений об ее основных признаках; слабая изученность структуры деловой среды, в частности, упор на корпоративные и олигархические характеристики, преобладание описательности или этатизации проблем взаимодействия с обществами.
Деловая среда, прежде всего, нуждается в определении внешних границ. Для решения этой исследовательской задачи важно отметить, что в российском обществе в присутствии механизма власти собственности трудно провести разделительную линию между деловой и политической средой. В то же время достаточно точно фиксируется в качестве показателя формы собственности (частная, муниципальная, государственная).
Прежде всего следует, на наш взгляд, отметить, что деловая среда отличается определенной автономностью, самостоятельностью в рамках реализации целей деловой активности. Тому подтверждением служит и идентификация агентов деловой среды, которые обладают такими признаками, как профессиональное делание денег, самостоятельное владение, распоряжение и управление капиталом, что можно охарактеризовать как эталонное определение, отличающееся от обладающих высокой степенью деформализо-ванности уровней деловой среды (среднего бизнеса, мелкого предпринимательства и самозанятости).
Отсутствие приоритетных стабильных норм деловой деятельности и активности вызывает сомнение относительно того, насколько деловая среда имеет устойчивые внешние границы, позволяющие очертить круг ее деятельности. В постсоветский период произошла институционализация деловой среды, представленная на основе легитимации института собственности, возникли деловые ассоциации (РСПП, Опора, ассоциации мелкого бизнеса).
Деловая среда как социальное пространство, если пользоваться методологией П. Бурдье, представляет соотношение различных социальных позиций. Неоднородность агентов деловой среды является нормальным явлением, но российская деловая среда поляроидна, тяготеет к полюсу крупного предпринимательства, занимающего монополистические позиции в частном секторе.
Также велика роль госкорпораций (Росатом, РАО ЕС России, Нанотехнологии). Это обстоятельство позволяет говорить о неструктурированности деловой среды, точнее, узком базисе, не позволяющем осуществлять устойчивую конвертацию капиталов. Вторым обстоятельством является то, что предпринимательство (деловая активность) в России принимает характер силового предпринимательства (практика рейдерства), что не позволяет утверждать позицию прозрачности и легитимности деловой среды.
В отличие от зарубежных образцов, российская деловая среда не может «похвастаться» большим обилием менеджеров. Точнее менеджмент российской деловой среды разделяется на две разноориентированные группы: хозяйственную бюрократию и «капиталистических» менеджеров. Преобладание тради- ционного управленческого слоя значительно снижает активность и влияние деловой среды в обществе, поскольку открываются шлюзы, усиливается зависимость от внешних обстоятельств в политике государства. К тому же деятельность многих российских предпринимателей носит вынужденный характер, не оторвана от практик адаптации и автаркизма.
В условиях, когда приближенность к власти гарантирует более-менее устойчивый доход, трудно также говорить о принятии самостоятельных норм деловой среды, которые бы позволяли ей действовать в режиме автономии. Дифференцированность, диспропорциональность деловой среды затрудняет развитие интенсивных связей и стремление к совместному сотрудничеству в решении актуальных для деловой среды вопросов.
Сохранение вертикали деловой среды действует и оказывает двоякое влияние: с одной стороны, не происходит фрагментации (не достигается порог фрагментации) и распада; с другой – блокируется актуализация образцов рациональности и морали, свойственных деловой среде. Также следует подчеркнуть, что российская деловая среда формировалась в основном из представителей технической интеллигенции и бюрократии, что не дает возможным абстрагирование от влияния властного капитала.
Действительно, существование социальных позиций никак не определяет стратегию делового воспроизводства. Следовательно, в российской деловой среде необходимо изучать коллективные властные ресурсы. Даже, несмотря на то, что положение агентов деловой среды во многом зависит от его отношения к государственной номенклатуре, было бы явным упрощением полагать, что деловая среда остается в рамках «придатка» государственных интересов.
Происходящие процессы профессионализации, эволюции управленческих иерархий, разделение организационного труда требует создания адекватной картины деловой среды. Так как в советский период отсутствовало деловое сообщество, которое бы корреспондировало со средним классом в обществе, не определены были границы деловых независимостей, деловых профессий, деловая среда испытывает негативные влияния эгалитаризма советского периода и практик ручного управления.
На наш взгляд, дефицит профессионализации во многом определяет высокий уровень деловых расходов и несоблюдение норм деловой ответственности. Можно также сказать, что приоритетность властных позиций значительно снижает интерес к наращиванию экономического капитала и взаимодействие внутри деловой среды. Крупный российский капитал, как правило, контактирует либо между собой, либо с государством, не проявляя заметных подвижек по отношению к среднему и мелкому бизнесу.
Как отмечает Т.И. Заславская, деловая среда российского общества может быть охарактеризована в контексте процесса приватизации государственной собственности [1, с. 10]. Указывая на слабую законодательную базу, неправовые методы приватизация, действия в основном закона силы, автор отмечает, что в деловой среде до сих пор не преодолен синдром нелегитимности, что выражается как в практиках силового предпринимательства, так и в перманентном переделе собственности.
Несмотря на то, что в российской деловой среде сложился слой легитимного предпринимательства, крайне неоднородность деловых ориентиров является помехой на пути стабильности и упорядоченности отношений внутри делового пространства. Это обстоятельство нельзя принимать как издержки движения страны от планового хозяйства к рыночному. Сложился теневой сектор, воспроизводящий незаинтересованный в институционализации, вернее, ориентированный на применение неформальных норм, что не позволяет стимулировать развитие профессионально делового потенциала.
Иными словами, криминальные и полукриминальные стратегии, позволяющие добиться экономических успехов, не стимулируют рост экономического и культурного капитала (образование профессиональной подготовки, повышение делового статуса). Анализируя профессиональные качества деловой среды, автор подчеркивает, что в большей степени ценностью обладают умение ладить с контролирующими чиновниками, вести деловые переговоры, готовность рисковать в разумных пределах [2, с. 10].
Очевидно, что российская деловая среда находится в «вилке» обстоятельств: в вилке нелегитимности и зависимости от воли государственного чиновничьего аппарата. На наш взгляд, эта ситуация крайне выгодна последнему, так как действие в рамках нелегитимности, отсутствие достаточного профессионального, квалификационного и управленческого потенциала вынуждают бизнес прибегать к схемам налаживания доверительных отношений и не создают достаточный ресурс прочности, нейтрализации коррупционных вызовов, а также представительство своих интересов путем легитимного лоббирования.
Развитие института собственности, так же как и экономических прав, является базисом (каркасом) деловой среды. Наличие нелегитимной собственности ставит деловую среду в зависимость от интервен-ционализма государства. Агенты деловой среды действуют часто на свой страх и риск или создают стабильный фон путем закрепления определенной государственной структурой, что не дает возможности реализовать самостоятельный потенциал и выступить, ориентироваться на инновации. Отсутствие деловой этики связывается как с повышенной готовностью обходить юридические нормы, так и с недостаточным деловым уровнем, чтобы брать на себя ответственность за принятие сложных решений.
Анализируя проблемы встраивания рынка в нерыночное общество, М.А. Шабанова отмечает, что строительство российского рынка шло в абстрагировании от социального контекста [3, с. 34]. Но как бы не называли современную российскую деловую среду, вплоть до явно негативной оценки, как квазисреды, существует (сформировался) определенный тип деловой среды, на котором сказываются особенности организации российского общества. На наш взгляд, не следует их принимать только как ограничители по пути движения к западным идеальным стандартам. Скорее, на опыте российской деловой среды выявляются особенности, которые при определенных условиях дают более высокую степень адаптации и перехода к рыночным отношениям.
Исходя из того, что в Советском Союзе не было деловой среды как таковой (нельзя же принимать цеховиков как социальный субъект), и то, что в 90-е годы большинство населения было вынуждено, а не добровольно, проявлять экономическую активность, можно сказать, что состояние деловой среды воспроизводит деление на господствующий и подчиненный слой (крупные игроки рынка и периферийные сектора).
Что же касается спонтаниизма, самостоятельности действий атомизированных индивидов рынка, стратегия социального анархизма, подразумевает не вмешательство, не влияние государства, а сосуществование формальных и неформальных норм. Нельзя сказать, что деловая среда представляет пространство уклонения от социальных ролевых ожиданий или сплошного нарушения правовых норм, свойственных реактивно адаптационному поведению.
Конечно, достижительное поведение проявляется в автономности экономической деловой активности. Но ослаблением горизонтальных связей и ужесточением системы вертикального (формальноправового) контроля вызывает обратный эффект, тем самым не развиваются традиции ответственности деловой репутации. Иными словами, российская деловая среда вертикально интегрирована, но в горизонтальной проекции хаотична и действует по правилам неформальных отношений. С другой стороны, важный фактор, который определяет состояние деловой среды - это, и здесь можно согласиться с М.А. Шабановой, воспроизводство административно-командных ролей.
Деловые агенты используют ресурс власти или приближенность к власти для накопления экономического капитала, также как и происходит конвертация экономического капитала, что может выглядеть неэкономичным с точки зрения экономических затрат на обслуживание заинтересованных лиц и налаживание личных договоренностей [4, с. 41]. Этому способствует и то, что властные элиты в ходе действия реформ, как известно, в значительной степени сохранили свой состав, то есть, продолжается традиция номенклатуры.
Наблюдается тенденция потеснения, сокращения сегмента, связанного с поддержкой государства. В 2000-е гг. деловая среда значительно обновилась за счет тех, кто не успел к «дележу» собственности, но обладает значительными, адаптированными к рынку, профессиональными или управленческими качествами. Но в условиях, когда бюрократия остается самостоятельным актором трансформационного процесса инновационная деятельность не является преимуществом деловой среды и вынуждает новобранцев действовать по логике присоединения или создания сегментов в тех отраслях, которые либо связаны с налаживанием отношений с зарубежными партнерами, либо направлены на освоение новых технологий.
Экономические преимущества рынка, деловой среды, таким образом, не реализуются в силу влияния социальных преференций, которые получила бюрократия в процессе реформирования российского общества. По сведениям М.А. Шабановой, большие группы бизнес-сообщества отмечают ухудшение отношений бизнеса и власти (36–38 %); ослабление защиты со стороны правоохранительных органов (35-49 %); снижение стабильности правил игры (38 %); прозрачности отношений (19-22 %) [5, с. 43].
Оценка таких неблагоприятных факторов в целом не создает условия дестабилизации деловой среды, но и требует от нее значительных затрат не на развитие, а на самосохранение, отстаивание позиций достигнутой автономности. Однако вертикальная интегрированность не означает централизованности деловой среды, воспроизводство планового наследования, так как изменились правила выполнения ролевых ролей, уменьшилась их регламентация и возрастает степень их самостоятельных инициативных действий. По крайней мере, никто не определяет в каких объемах, кому воспроизводить и кому по каким ценам продавать. Иными словами, на институционально-правовом уровне расширяются ролевые рамки для роста автономности субъектов деловой деятельности, проявление их индивидуальности и свободы [6, с. 37].
В то же время социальное пространство остается узким за счет сохранения под влиянием доминирования системы воспроизводства иерархии по принципу приближенности к власти. Формально-правовые регуляторы так и не стали общепринятыми и часто деловая активность не совпадает с ролевыми ожиданиями. Отсутствие гарантии собственности также усиливает чувство фрустрации, незащищенности.
Самым примечательным, заслуживающим внимания моментом является и то, что деловая среда вынуждена вступать в контакты с государством, не заботясь об общественном имидже, не налаживая отношений с потребителем. В этих условиях вполне объясним тот факт, что деловое сообщество не вызывает у большинства россиян надежд и, в лучшем случае, рассматривается как сфера самозанятости, не связанная с решением кардинальных проблем.
Растущая напряженность деловой среды в отношениях с государством является следствием двух факторов, когда государство рассматривает действие деловой среды заведомо как нелегитимное, а акторы деловой среды уклоняются от следования официальным ролевым ожиданиям. В этих условиях, казалось бы, неизбежно действие вертикального контроля, но неправовой коррумпированный характер взаимодействия государства и деловой среды определяет тенденцию «вольного» трактования правовых норм и их избирательного использования.
При том, что российская деловая среда демонстрирует высокий уровень адаптации к новым условиям, подавляющее большинство акторов испытывают чувство неуверенности (67 %) [7, с. 43]. Но рост адаптированности не коррелирует снижение роли законопослушных. Российская деловая среда рассматривает и ощущает востребованность в правовой упорядоченности, но развивается исключительно по неправовым ориентирам. Объяснение такому парадоксу состоит в том, что трансакционные издержки от исполнения закона выше незаконопослушания, точнее, обхождения закона и налаживания личных контактов с представителями власти.
Достигнув определенной социально-экономической свободы, акторы деловой среды не вступили в пространство правовой свободы. И в этих условиях рост доходов и, связанного с этим социально- имущественного неравенства, как ни странно, является основным значимым достижением, не связанным с либерализацией деловой активности или демократизации общества.
Не касаясь проблемы авторитарности в деловой сфере, которая реально существует в командных позициях меньшинства (флагманов российского капитализма), можно сказать, что легитимации такого полуправового порядка препятствует отсутствие заинтересованности флагманов бизнеса в привлечении ресурсов подчиненных сегментов деловой среды; вернее, диктуя правила, ведущие акторы не связывают реализацию рыночных целей, свой успех с включением в систему деловых отношений микроакторов деловой среды, ориентируясь на интегрированность во власть и использование в качестве преимущества властного, а не экономического капитала.
Диспропорциональность деловой среды блокирует возможности рационализации внутренних отношений, создавая параллельные деловые миры, не имеющие общие интересы и, следовательно, действующие в одиночку в решении проблем делового сообщества. Состояние деловой среды «рыхло», что позволяет существование формальных лакун, способствующих стратегиям выживания, но, одновременно, не открывающие возможности для реализации правового регулирования.
Сложился «порочный» круг, в котором уклонение от налогов является привычным способом адаптации, но одновременно «подрывает веру» в способность деловой среды оказывать и предоставлять общественные товары и услуги. О несостоятельности такой ситуации свидетельствуют наблюдаемые высокие показатели распада мелкого бизнеса, а также рост неравенства на фоне ослабления деловой активности.
Доверие к координирующим механизмам, действующим в деловой среде, также не достигло достаточно высокого уровня, чтобы возместить уход государства. Наоборот, крупные кампании (банки), обращаясь к государству, демонстрируют эгоизм по отношению к мелкому и среднему бизнесу, не достигших высоких ресурсов влияния и отлаженных схем взаимодействия.
Подрыв доверия к государству связан как с невыполнением государством своих функциональных обязательств по отношению к деловой сфере, так и в том, что государство, хотя до сих пор и декларирует, не в состоянии защитить бизнес от коррупции и чиновничьего рэкета. Более того, средства, которые выделяются на развитие бизнеса, либо не доходят до адресата, либо распределяются таким образом, что увеличивают разрыв между различными сегментами деловой среды.
Особенно важным шагом являются меры по реализации программ поддержки малого и среднего предпринимательства. Но в условиях кризиса, когда была оказана существенная поддержка только крупным корпорациям, происходит стремительное сокращение деловой активности на социальном микроуровне, что создает риски дедемократизации деловой среды и усиление ее непрозрачности по отношению к общественным запросам.
Социальной неэффективности деловой среды способствовал целый ряд факторов. Во-первых, унаследованная номенклатура и система дает право на получение преференций акторам, не относящимся к числу нуждающихся. Во-вторых, ответственность за развитие малого и среднего бизнеса во многом переложена на региональные власти, что ставит депрессивные регионы в условия, в которых наиболее высок уровень безработицы и накопилась масса отложенных социальных и инфраструктурных проблем, в положение воспроизводимой зависимости. Сложная система распределения обязанностей между различными инстанциями часто приводит к межведомственным обвинениям и перекладыванию ответственности на не обладающих ресурсом власти субъектов деловой активности [8, с. 35].
Рационализация деловой среды неизбежно означала бы отмену различного рода преференций и создание равных условий взаимодействия с государством и обществом акторов деловой активности. Благоприятным для такой подвижки фактором является то, что в российской деловой среде созданы условия для деловой активности и сформировались определенные элементы деловой культуры. Стратегия делового сообщества строится на том, чтобы «примирить» деловое сообщество с государством и двигать по пути консолидации современное российское общество.
Ссылки:
Список литературы Институционализация российской деловой среды
- Заславская Т.И. Авангард российского делового сообщества: тендерный аспект//Социологические исследования. 2006. № 5.
- Шабанова М.А. Проблема встраивания рынка в нерыночное общество//Социологические исследования. 2005. № 12.
- Социальный капитал и социальное расслоение в современной России. М., 2003.