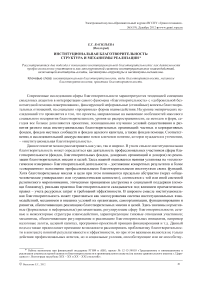Институциональная благотворительность: структура и механизмы реализации
Автор: Васильева Елена Геральдовна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 5 (19), 2012 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются два подхода к пониманию институциональной благотворительности: как деятельности профессиональных участников и как многоуровневой системы институциональных взаимодействий, включающей институты-агенты, институты-структуры и институты-механизмы.
Институциональная благотворительность, виды благотворительности, механизм благотворительности, практика благотворительности
Короткий адрес: https://sciup.org/14821818
IDR: 14821818
Текст научной статьи Институциональная благотворительность: структура и механизмы реализации
Современные исследования сферы благотворительности характеризуются тенденцией смещения смысловых акцентов в интерпретации самого феномена «благотворительность» c «добровольной безвозмездной помощи-пожертвования», фиксирующей неформальные (стихийные) аспекты благотворительных отношений, на социально «прозрачные» формы взаимодействия. На уровне эмпирических исследований это проявляется в том, что проекты, направленные на выявление особенностей массового социального восприятия благотворительности, уровня ее распространенности, ее методов и форм, сегодня все больше дополняются проектами, посвященными изучению условий существования и развития разного вида институциональных благотворительных организаций: частных и корпоративных фондов, фондов местных сообществ и фондов целевого капитала, а также фондов помощи. Соответственно, в исследовательский дискурс введено новое ключевое понятие, которое нуждается в уточнении, – «институциональная благотворительность».
Данное понятие можно рассматривать как узко, так и широко. В узком смысле институциональная благотворительность может определяться как деятельность профессиональных участников сферы благотворительности (фондов, благотворительных фондов, донорских организаций и доноров) по реализации благотворительных миссии и целей. Здесь важной оказывается неявная установка на «технологическое измерение» благотворительной деятельности – достижение конкретных результатов и более «совершенное» исполнение профессиональными благотворительными институтами своих функций. Хотя благотворительные миссия и цели при этом понимаются предельно абстрактно (через «общечеловеческие универсалии» или «гуманистические ценности»), соотносятся с той или иной системой религиозного миропонимания, этическими принципами альтруизма и социальной поддержки (помощи ближнему), реальная практика благотворительности складывается под влиянием прагматических правил – учета ресурсных затрат и требований эффективности. В широком смысле институциональная благотворительность может трактоваться как многоуровневая система институциональных взаимодействий, механизмов и внешних условий их организации, самоорганизации, функционирования и развития, обеспечивающих реализацию благотворительных миссии и целей. Здесь значимы нормативные (формальные и неформальные) регламентации, регулирующие сферу благотворительности; сетевые и межсекторные структуры взаимодействия, характеризующие типовые отношения участников; механизмы, обеспечивающие регулирование и реализацию благотворительных инициатив, например налоговые льготы, целевой капитал, программно-проектный принцип финансирования и т.д. Данный подход также предполагает признание возможности рассматривать проблематику благотворительности в контексте понятий результативности и эффективности, но при этом важными являются не только действия профессиональных агентов, но и социальные условия, способствующие или не способству- ющие эффективной профессиональной деятельности участников. Это значит, что «технологическое измерение» ориентировано на более широкий социальный контекст, предполагает некоторые заданные, явные или неявные, эталонные нормативы для квалификации той или иной практики благотворительности как более или менее успешной.
Традиционное измерение благотворительности включает ее различные формы и виды, которые отличаются характером социального участия ее агентов, том числе по:
– используемым ресурсам благотворительности;
– целям благотворительной деятельности;
– формам участия;
– условиям предоставления.
Ресурсная благотворительность подразумевает следующие виды благотворительной активности:
-
• финансовую (денежная помощь из средств организации наличными и по перечислению) и денежные пожертвования (прямая безвозмездная передача наличных денег от благотворителя к получателю);
-
• материальную (безвозмездное предоставление продукции (услуг) предприятия; предоставление продукции (услуг) предприятия со скидкой; непрофильные услуги со стороны предприятия) и материальные пожертвования (передача нуждающимся материальных (вещевых, продуктовых) пожертвований);
-
• организационную (безвозмездное предоставление консультационных услуг (информационных, пропагандистских, специальных профессиональных, например в области права, социального проектирования, психологии и т.д.); подготовку и реализацию целевых социальных программ в сфере благотворительности.
В зависимости от целей благотворительной деятельности можно выделить благотворительную активность, связанную с реализацией:
-
• гуманитарных проектов, направленных на:
-
– развитие сферы образования и культуры;
– сохранение исторического наследия;
– поддержание (создание) благоприятной среды проживания;
– поддержку (развитие) социальных инициатив;
– охрану здоровья населения.
-
• социальной помощи нуждающимся:
-
– малообеспеченным семьям с детьми;
-
– ветеранам войн, уволенным в запас военнослужащим;
-
– пожилым людям, одиноким пенсионерам;
-
– инвалидам, детям-инвалидам;
-
– детям-сиротам, подросткам из неблагополучных семей;
-
– людям, пострадавшим от стихийных бедствий;
-
– безработным (реабилитация);
– другим нуждающимся людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (беженцам, бездомным, жертвам насилия и т.д.).
В зависимости от характера участия (непосредственные действия по оказанию помощи / опосредованная (финансовая или материальная) помощь) различаются следующие виды благотворительности: волонтерство – добровольная общественная деятельность (деятельность по оказанию взаимопомощи и самопомощи, официальному предоставлению услуг и другие формы гражданского участия, которая осуществляется на благо широкой общественности без расчета на денежное вознаграждение); пожертвование – добровольная оплата без принуждения, безвозмездный дар, передача денег в пользу какой-либо организации или лица.
В зависимости от условий реализации (предоставления помощи) различаются следующие виды благотворительности: спонсорство – социальная поддержка (финансовая, материальная, поддержка услугами и продукцией), предполагающая информирование общественности об оказании помощи спонсором, в том числе в обмен на рекламу своей деятельности, продукции; меценатство – социальная поддержка (материальная и финансовая помощь) деятелей науки и искусства, а также культурных, образовательных, научных инициатив, осуществляемая на безвозмездной основе из личных средств благотворителя; филантропия – социальная поддержка нуждающихся на основе гуманитарных проектов, продвигающих гуманистические принципы; благотворительность про боно – оказание безвозмездной (или на льготных условиях) профессиональной помощи от организаций нуждающимся.
Институциональное измерение благотворительности связано с пониманием институциональной структуры и институциональных взаимодействий, составляющих механизм ее реализации. В этом случае важными будут следующие элементы благотворительного процесса:
-
1) институты-агенты – участники процесса, осуществляющие действия (организации и люди):
-
– государственные учреждения социальной помощи и поддержки;
-
– частные благотворители;
-
– организации (отделы бизнес-структур), осуществляющие корпоративную благотворительность;
-
– общественные благотворительные организации;
-
– профессиональные благотворительные фонды;
-
– некоммерческие организации социальной направленности;
-
– получатели помощи;
-
– волонтерское движение;
-
2) институты-структуры: институциональные «поля» действия, для которых характерны устойчивые формы взаимосвязи участников в рамках реализации той или иной практики (формы, вида) благотворительности:
-
– типовые практики (направления участия) благотворительности, в том числе используемые практики ресурсной и целевой благотворительности, типовые формы и условия участия в благотворительности;
– ценностно-символические компоненты, обеспечивающие символически-смысловое оправдание благотворительного действия, в том числе отношение к ценности благотворительности, общественная значимость благотворительности, мотивация участия в благотворительности;
-
3) институты-элементы механизма, обеспечивающего регулирование и развитие сферы благотворительности: формы институционального взаимодействия «во времени»:
-
– элементы, обеспечивающие развитие (сохранение, передачу опыта): благотворительные инициативы, благотворительные традиции;
-
– элементы, обеспечивающие регулирование действия – социальное признание, санкции-поощрения, санкции-наказания;
-
– организационные (социальные) технологии благотворительности, в том числе межсекторное взаимодействие и социальное партнерство, формирование целевого капитала, законодательная поддержка, программно-проектный подход.
Рассмотренные институты составляют основу для идеального моделирования сферы (процесса) благотворительности. В то же время понимание механизмов институциональной благотворительной деятельности применительно к той или иной стране, конкретному региону и т.д. требует изучения процесса на эмпирическом уровне. В этом случае представляется необходимой проблематизация двух аспектов.
П ер вый асп е кт связан с пониманием и формированием эталонных стандартов, обеспечивающих оценку практик благотворительности. Фактически данные эталоны задаются экспертными разработками, основанными на выводах эмпирической социологии, моделирующей исследуемую область. Например, сегодня модель учитывает не только фактор регламентаций (формальных и неформальных)
сферы благотворительности или факторы институциональных механизмов структурной самоорганизации сферы благотворительности, но и влияние ситуационных факторов. Действие ситуационных факторов становится очевидным как раз при сопоставлении разных практик благотворительности – региональных или, например, ведомственных (корпоративных) форм благотворительности. В этом случае появляется возможность, во-первых, обобщения типовых элементов благотворительной практики, во-вторых, сравнения результатов благотворительной деятельности в ее различных формах и проявлениях (например, возможность выявления, сравнения и оценки благотворительных программ и благотворительных акций, используемых различными профессиональными агентами по одному из направлений благотворительности и т.д.), в-третьих, формирования эталонной шкалы для оценки практических проявлений благотворительности, отбора и квалификации данных проявлений в качестве лучших практик.
Таким образом, отбирая эталонные практики, эмпирические социологические исследования и экспертные разработки создают и эталонные нормативы оценки, обеспечивают возможность создания и тиражирования социальных технологий благотворительности, т.е. оказываются неразрывно связанными с задачами эффективного социального управления. В этой связи следует указать на одно исследование – отчет «Мировой рейтинг благотворительности 2010», подготовленный международной благотворительной организацией CAF и размещенный в русскоязычном сегменте сети Интернет. Данный отчет был подготовлен на основе статистических данных опроса о частной благотворительности в рамках долгосрочного исследования общественного мнения компании Gallup (worldview.gallup.com), которое охватывает около 95% населения мира. Исследование позволяет проследить то, какие различия существуют в поведении частных благотворителей не только в разных регионах, но и в разных странах, при этом исследуются не только частные пожертвования, но и волонтерство. Мировой рейтинг благотворительности CAF охватывает данные по 153 странам и представляет собой индексированный показатель, включающий среднее арифметическое от трех параметров: процент населения страны, которое в течение месяца, предшествующего исследованию, делало благотворительные пожертвования организациям, занималось волонтерской работой и оказывало непосредственную помощь нуждающимся.
Оценивая данное исследование как пример экспертной разработки, можно предположить, что общая направленность социологических исследований благотворительности в перспективе будет определяться поиском оптимальных практик, направленных на массовое социальное участие потенциальных агентов, и организационно-управленческих технологий, обеспечивающих беспрепятственное проявление благотворительных инициатив.
Исходя из изложенного, определим еще один проблемный аспект темы институциональной благотворительности: недостаточность концептуализации эталонных практик благотворительности, учитывающих российский опыт и задающих на данной основе новые параметры измерения и оценки институциональной благотворительности. Проблема заключается не только в том, что данные параметры -могли бы применяться в сравнительных исследованиях других стран (т.е. в необходимости продвижения собственных научных технологий), а в том, что отсутствие подобных разработок повышает риск принятия и тиражирования социальных технологий, которые могут быть «отторгнуты» на уровне практики массового социального действия.
Очевидно, что изложенное выше понимание институциональной благотворительности далеко не всегда и не во всем совпадает с пониманием благотворительности, характерным для российской социокультурной традиции и российской традиции гуманитарного научного знания. Эмпирическое исследование феномена благотворительности в России должно, по нашему мнению, обязательно ответить на целый ряд вопросов, до сих пор мало учитываемых. Как воспринимаются обществом (населением, бизнесом, сектором НКО) практики профессиональной благотворительной деятельности? Насколько они действительно распространены в российской реальности? Как они соотносятся с культурно-исторической традицией российской благотворительности? Может ли сфера благотворительности быть в принципе технологизирована в предлагаемых концептах модели институциональной благотворительности, а эффективность благотворительной деятельности – быть «вычислена» в индексированных оценках? Ответ на данные вопросы задает перспективу историко-социологического анализа сферы благотворительности, связанного со сравнением исторических (традиционных) и современных (инновационных) практик. Исторический опыт показывает, что предшествующие поколения наших соотечественников внесли существенный вклад в развитие городской культуры, образования, здравоохранения, градостроительства именно на основе благотворительных инициатив: благотворительность как проявление милосердия и человеколюбия существовала и будет существовать до тех пор, пока имеется необходимость в помощи людям, а главным импульсом для развития общественной и особенно частной формы благотворительности является неспособность государственных социальных учреждений оказать в полной мере необходимую помощь нуждающимся.
Важнейшее преимущество сравнительного историко-социологического исследования благотворительности заключается в возможности раскрыть в результатах (аналитических интерпретациях) смысловую основу мотивации благотворительных инициатив, что может повлиять и на сами критерии оценки «эффективной» благотворительности. Исторический опыт сохраняет свою значимость и при выработке эффективных технологий, и при распространении лучших благотворительных практик, поскольку позволяет нейтрализовать возможные социальные риски вследствие инерционности процессов трансформации общественного сознания. Исторический опыт, как это ни парадоксально, сохраняет свою значимость и при создании инноваций, т.к. показывает, что многие современные проблемы социальной защиты и поддержки населения не являются абсолютно новыми – подобные вопросы ранее уже возникали и находили оптимальное решение.
Список литературы Институциональная благотворительность: структура и механизмы реализации
- Мировой рейтинг благотворительности 2011//НПГО «Форум доноров»: сайт. URL: http://donorsforum.ru/library/articles (дата обращения: 20.11.2012).