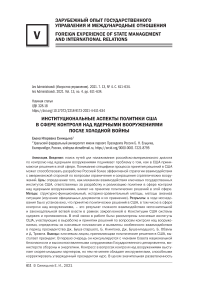Институциональные аспекты политики США в сфере контроля над ядерными вооружениями после холодной войны
Автор: Синицына Е.И.
Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi
Рубрика: Зарубежный опыт государственного управления и международные отношения
Статья в выпуске: 4 т.13, 2021 года.
Бесплатный доступ
Введение: поиск путей для налаживания российско-американского диалога по контролю над ядерными вооружениями поднимает проблему о том, как в США принимаются решения в этой сфере. Понимание специфики процесса принятия решений в США может способствовать разработке Россией более эффективной стратегии взаимодействия с американской стороной по вопросам ограничения и сокращения стратегических вооружений.
Ядерное оружие, контроль над вооружениями, политика сша, принятие политических решений, система сдержек и противовесов, президент сша, конгресс сша
Короткий адрес: https://sciup.org/147246710
IDR: 147246710 | УДК: 328.18 | DOI: 10.17072/2218-9173-2021-4-611-634
Текст научной статьи Институциональные аспекты политики США в сфере контроля над ядерными вооружениями после холодной войны
Контроль над ядерными вооружениями, одна из немногих сфер возможного сотрудничества России и США, как и другие направления российско-американского взаимодействия, на данный момент переживает глубокий кризис, способный в недалеком будущем привести к прекращению действия формальных соглашений, ограничивающих ядерные арсеналы обеих стран. В этой связи особую актуальность обретает поиск путей преодоления сложившейся кризисной ситуации даже в условиях общего ухудшения российско-американских отношений, поскольку проблема ограничения и сокращения ядерных вооружений – серьезный вызов для всей системы международной безопасности (Арбатов и Дворкин, 2017). Один из возможных способов найти решение этой проблемы – анализировать внутриполитические процессы в США, а именно механизм принятия политических решений по вопросам контроля над вооружениями. Понимание того, какие силы и процессы в Вашингтоне лежат в основе формулирования его политического курса в такой чувствительной сфере, может стать ключом к выявлению закономерностей и долгосрочных тенденций американской политики и, как следствие, к разработке эффективного плана действий для налаживания российско-американского диалога по стратегической стабильности. Таким образом, цель данной работы – определение того, как механизм взаимодействия ключевых государственных институтов США, ответственных за разработку и реализацию политики в сфере контроля над ядерными вооружениями, влияет на принятие политических решений в этой сфере. В качестве примеров были рассмотрены периоды президентства Дж. Буша-старшего, Б. Клинтона, Дж. Буша-младшего, Б. Обамы и Д. Трампа, приходившиеся на период после окончания холодной войны.
МЕТОДОЛОГИЯ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ) ИССЛЕДОВАНИЯ
Теоретико-методологическую основу исследования составляет теория неоклассического реализма Г. Роуза (Rose, 1998). Уточняя положения классика неореализма К. Уолтца (Waltz, 1979), Г. Роуз свел систему международных отношений к результату взаимодействия трех переменных: внешней, международной, среды (независимая переменная), государственной среды (вторгающаяся переменная) и внешней политики (зависимая переменная). Из этого следует, что для выстраивания внешнеполитического курса критически важную роль играют первые две детерминанты. Теория неоклассического реализма, таким образом, обращает внимание на комплекс внутриполитических факторов, которые влияют на внешнюю политику государства, – борьбу элит, конкуренцию ветвей государственной власти, внутриполитическую ситуацию и т.д., что позволяет объяснить, почему государства по-разному реагируют на одно и то же структурное воздействие.
В основу работы легла также институциональная теория Д. Розенау (Rosenau, 1971), которая описывает механизм взаимодействия различных государственных и общественных институтов в сфере международных отно- шений, в отличие от теории принятия внешнеполитических решений, фокусирующейся на роли исполнительной власти и минимизирующей влияние законодательной власти, политических партий и групп давления.
Процесс принятия политических решений в США основан на взаимодействии исполнительной и законодательной ветвей власти. Эксперты либо рассматривают этот процесс в целом (Журавлева, 2011), либо специализируются на принятии решений в конкретной сфере. Для целей настоящей работы актуальны исследования, посвященные механизму принятия внешнеполитических решений, хотя и не в полной мере отражающие институциональную структуру и процессы, связанные с контролем над ядерными вооружениями. Однако большинство экспертов, как российских (Самуйлов, 2013; Троицкий, 2014), так и зарубежных1, рассматривают именно это направление.
Некоторые исследователи специализируются на особенностях формирования и реализации военной политики и политики США в области национальной безопасности (Auerswald and Campbell, 2011; Sapolsky et al., 2021; Рогова, 2016).
О процессах принятия в США решений по вопросам, связанным непосредственно с ядерными вооружениями, писали зарубежные ученые (Karako, 2012; Singh, 2019; Lee, 2019; Peake et al., 2012). Комплексный обзор всех задействованных в разработке ядерной политики институтов, как исполнительных, так и законодательных, и их взаимоотношений был представлен в исследовании английского эксперта по политике национальной безопасности США Н. Ричи (Ritchie, 2009).
Современные внутриполитические процессы в США, влияющие на принятие решений в сфере контроля над ядерными вооружениями, затрагивают в своих работах отечественные специалисты2 (Бубнова, 2019; Суслов, 2021) и авторские коллективы (Рогов и Рогова, 2017; Безруков и Сушенцов, 2018; Jordan et al., 2021). При этом лишь немногие анализируют и процессы, происходящие в Конгрессе США (Суслов, 2021; Троицкий, 2014; Рогов, 2016)3.
За рубежом популярность исследований, посвященных актуальным проблемам взаимодействия двух ветвей власти США по вопросам контроля над ядер-ными вооружениями, значительно выше. Среди тех, кто специализируется на этой теме, Э. Вулф4, К. Риф (Reif and Bugos, 2020), Д. Кимбол5, С. Пайфер6, Х. Кристенсен7, П. Вадди8, П. Харрис9, С. Андерсон10 и многие другие.
Таким образом, несмотря на довольно широкую популярность изучаемой проблемы в западном экспертном сообществе, в российском ей уделяется заметно меньшее внимание: главный акцент делается на анализе действий, предпринимаемых президентом и его администрацией, а не процессов, происходящих в американской политической системе в целом. Научная значимость данной работы состоит в устранении выявленного пробела.
Для определения структуры органов государственной власти США, участвующих в принятии решений по вопросам контроля над вооружениями, принципов их взаимодействия и функций был использован структурнофункциональный метод в рамках системного подхода. При выявлении общих и отличительных черт в политике США в сфере контроля над ядер-ными вооружениями после холодной войны были применены историкосравнительный метод, а также методы ситуационного анализа: изучение официальных документов законодательной и исполнительной ветвей власти США и их сравнение.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Принятие политических решений в США – это результат сложного взаимодействия исполнительной и законодательной ветвей власти, закрепленного в Конституции США11. Оно является частью системы сдержек и противовесов, в рамках которой каждая ветвь ограничена в своих действиях без поддержки другой. Основным посредником между ветвями власти выступают политические партии, и ключевая проблема, которая возникает в их взаимодействии, связана с феноменом так называемого «разделенного правления». Под ним понимается ситуация, когда исполнительная ветвь находится под контролем одной партии, а в законодательной – доминирует другая. Эта тенденция стала характерной особенностью американской политической системы со второй половины XX века. Отчасти из-за нее, отчасти из-за предусмотренной в американской конституции системы сдержек и противовесов история взаимодействия двух ветвей власти при принятии политических решений напоминает непрерывное «перетягивание каната полномочий» (Журавлева, 2011, с. 13).
Политика в сфере контроля над ядерными вооружениями не является исключением: она формируется в результате сотрудничества и соперничества исполнительных и законодательных институтов. Ее основу составляет деятельность, связанная с международными соглашениями по ограничению, сокращению и ликвидации ядерных вооружений (Антонов, 2012, с. 9). При этом непосредственное влияние на политику оказывают планы по модернизации ядерных сил (Paulsen, 1994, p. 45).
В ходе исследования было установлено, что основную роль в разработке и проведении политики США по контролю над ядерными вооружениями играют Президент США, Совет национальной безопасности (СНБ), Государственный департамент, Министерство обороны, Министерство энергетики и Конгресс США.
Институты исполнительной ветви власти США, участвующие в принятии решений в сфере контроля над ядерными вооружениями
Исполнительную ветвь власти возглавляет Президент США , являющийся одновременно главой государства, главой правительства и Верховным главнокомандующим вооруженными силами. Президент назначает руководителей федеральных ведомств, в том числе членов своего кабинета12, подписывает или отклоняет законы, заключает международные договоры13. При этом у законодательной ветви – Конгресса США – есть инструменты, которые ограничивают полномочия Президента США. Глава государства также подписывает и направляет в Конгресс один из ключевых документов стратегического планирования – Стратегию национальной безопасности США (National
Security Strategy of the United States)14. Президент США – ключевое лицо, принимающее политические решения. Его восприятие того, что отвечает национальным интересам страны, является доминирующим в бюрократической системе. Но на практике в выработке и принятии решений участвует большое количество советников, которые обычно находятся под влиянием своих подчиненных (Halperin and Clapp, 2006, p. 16).
Совет национальной безопасности (СНБ) США – главный совещательный орган для рассмотрения вопросов и принятия решений в сфере национальной безопасности и внешней политики США (Безруков, 2015, с. 98). СНБ возглавляет сам президент; в числе его постоянных членов – вице-президент, государственный секретарь, министр обороны, министр энергетики и министр финансов, а также помощник президента по вопросам национальной безопасности (советник по национальной безопасности). Согласно американскому законодательству, председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США консультирует СНБ по военным вопросам, а директор национальной разведки – по вопросам разведки, связанным с проблемами национальной безопасности. В случае необходимости по запросу Президента США на заседаниях совета присутствуют также руководители и высокопоставленные должностные лица других ведомств15. СНБ координирует взаимодействие различных правительственных учреждений и представляет президенту набор альтернатив для принятия решений, в том числе по вопросам ограничения и сокращения ядерных вооружений16. Хотя принятие окончательного решения остается за президентом, СНБ за годы своего существования стал играть весомую роль не только в формулировании, но и реализации политики национальной безопасности17.
Государственный департамент США несет ответственность за ведение переговоров по заключению соглашений о контроле над вооружениями и разоружении. В Государственном департаменте за межведомственный политический процесс и разработку политики в сфере нераспространения и контроля над ядерными вооружениями отвечает заместитель государственного секретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности. В его аппарат входят Бюро по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений (Bureau of Arms Control, Verification and Compliance), Бюро по международной безопасности и нераспространению (Bureau of International Security and Nonproliferation) и Бюро по военно-политическим вопросам (Bureau of Political-Military Affairs)18.
Министерство энергетики США отвечает за обеспечение целостности и сохранности ядерного арсенала страны, содействие ядерному нераспространению и международной ядерной безопасности19. В 2000 году Конгресс США учредил Национальное управление по ядерной безопасности (National Nuclear Security Administration, NNSA) – полуавтономное подразделение министерства, в чьем ведении находятся национальные лаборатории, занимающиеся разработкой ядерного оружия, и объекты по его производству20. В рамках одной из своих миссий Национальное управление по ядерной безопасности поддерживает и повышает безопасность, эффективность и надежность запасов ядерного оружия США без проведения ядерных испытаний21. Эту миссию управление реализует посредством осуществления Программы управления ядерным арсеналом (Stockpile Stewardship and Management Program, SSMP)22 и при поддержке трех национальных ядерных лабораторий: Ливерморской национальной лаборатории имени Э. Лоуренса, Национальной лаборатории Лос-Аламос и Национальных лабораторий Сандия23.
Министерство обороны США состоит из целого ряда подразделений, в числе которых Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил США (ОКНШ) и Стратегическое командование вооруженных сил США (СТРАТКОМ)24. Министр обороны отвечает за разработку политики в области национальной обороны и ядерное планирование (Ritchie, 2009, p. 18). Он утверждает Национальную оборонную стратегию (National Defense Strategy)25 – основной документ Министерства обороны США, определяющий цели в отношении структуры вооруженных сил, планов по их модернизации и другие ключевые положения, необходимые для осуществления Стратегии национальной безопасности.
Председатель ОКНШ – главный военный советник Президента США, министра обороны и СНБ, он утверждает Национальную военную стратегию США. Все члены ОКНШ также являются военными советниками и могут отвечать на запрос или сообщать через председателя свою позицию президенту, министру обороны и другим членам СНБ. За разработку военных стратегий, планов и политических рекомендаций по всему спектру проблем националь- ной безопасности в ОКНШ отвечает Управление по стратегическим планам и политике (Strategic Plans and Policy Directorate, J5)26.
СТРАТКОМ США осуществляет управление всем американским ядерным арсеналом. С созданием этой структуры в 1992 году ядерное планирование отдельных вооруженных сил впервые было поставлено под единое командование. Подчиняясь непосредственно Президенту США и министру обороны, СТРАТКОМ консультирует их по стратегическим вопросам, отвечает за поддержание безопасности и эффективности ядерных сил и подготовку оперативных планов применения ядерного оружия27. В СТРАТКОМ разработкой стратегии, планов и политики национальной безопасности занимается Управление по планам и политике (Plans and Policy Directorate, J5)28.
Министерство обороны и Министерство энергетики, действующее через Национальное управление по ядерной безопасности, таким образом, несут ответственность за управление запасами ядерного оружия США. Совместно они готовят один из ключевых документов стратегического планирования в области ядерных вооружений – Обзор ядерной политики (Nuclear Posture Review, NPR) (Бужинский и Веселов, 2018, с. 18). Координацией деятельности этих двух министерств занимается Совет по ядерному оружию (Nuclear Weapons Council, NWC)29.
Кроме того, актуальную информацию для принятия решений по вопросам национальной безопасности, в том числе касающуюся политики других государств в области ядерных вооружений, предоставляет разведывательное сообщество. Оно состоит из 17 ведомств при различных правительственных учреждениях, включая Министерство обороны, Государственный департамент и ведомства военных служб (Ritchie, 2009, p. 9). Возглавляет разведывательное сообщество директор национальной разведки – главный советник Президента США и СНБ по вопросам разведки, связанным с национальной безопасностью30.
Все перечисленные органы исполнительной власти, с одной стороны, действуют, исходя из национальных интересов США, а с другой – вкладывают в это понятие разные представления, основываясь на своих институциональных интересах, и стремятся оказать влияние на решения президента. Конкуренция присутствует не только в межведомственных отношениях, но и внутри органов власти. Карьерные чиновники, для которых большое значение имеет продвижение по государственной службе, должны бороться за то, чтобы их идеи были услышаны, и могут попытаться продвинуть их с приходом новой администрации. Однако в основе своей бюрократическая система характеризуется инертностью, нежеланием государственных служащих нарушать статус-кво, сохраняющий баланс между интересами каждого ведомства, поскольку время и ресурсы отдельного человека в этой системе ограничены (Halperin and Clapp, 2006, p. 99).
Несмотря на традиционно более сильную роль исполнительной ветви власти в разработке и реализации политики США в сфере контроля над вооружениями и в ядерной сфере в целом, законодательная ветвь обладает определенными полномочиями, чтобы оказывать на нее влияние (Auerswald and Campbell, 2011; Троицкий, 2014).
Роль Конгресса США в принятии и реализации решений в сфере контроля над ядерными вооружениями
Законодательную ветвь власти представляет Конгресс США, состоящий из двух палат: верхней – Сената и нижней – Палаты представителей. Эффективность работы Конгресса в каждой палате обеспечивается за счет распределения поступающих вопросов между комитетами и находящимися в их составе подкомитетами, специализирующимися на определенном направлении деятельности. Вопросы контроля над вооружениями в основном рассматриваются в комитетах Сената по международным отношениям и вооруженным силам и в комитетах Палаты представителей по иностранным делам и вооруженным силам. Кроме того, проблемы контроля над вооружениями также обсуждаются в комитетах по бюджету, ассигнованиям и в специальных комитетах по разведке31.
В распоряжении Конгресса есть четыре полномочия, благодаря которым он может участвовать в разработке и реализации политики в сфере контроля над ядерными вооружениями: законодательные, финансовые, контрольные и полномочия по вопросам, передаваемым на рассмотрение Конгресса Президентом США (executive business)32.
Первоочередным является право законодательной инициативы: парламентарии могут вносить на рассмотрение Конгресса проекты законов и совместных резолюций, которые в случае принятия их простым большинством голосов в каждой палате (51 – в Сенате и 218 – в Палате представителей) и последующего подписания президентом получают обязательную юридическую силу. Однако на практике для одобрения законопроекта в Сенате нужно получить согласие квалифицированного большинства – 60 сенаторов: именно такое количество голосов требуется для прекращения филибастера (filibuster) – целенаправленного затягивания парламентским меньшинством голосования по законопроекту (King, 2010, p. 10). Если в итоге законопроект получает одобрение и в Сенате, и в Палате представителей, но Президент США не согласен с позицией Конгресса, он может воспользоваться правом вето и заблокировать решение парламентариев. Вето, однако, можно преодолеть повторным одобрением законопроекта большинством в 2/3 голосов в каждой палате.
Финансовые полномочия Конгресса (“power of the purse” – «власть кошелька») реализуются в ежегодном бюджетном процессе, который является частью законотворческой деятельности парламента, и заключаются в том, что без разрешения Конгресса органы исполнительной власти не могут использовать федеральные средства. Конгресс может прекратить финансирование той или иной программы или увеличить его, если программа становится приоритетной для законодателей. В случае соглашений в сфере контроля над вооружениями Конгресс США может разрешить расходование средств на их осуществление или попытаться отказаться от финансирования. Он также может принять закон, связывающий финансирование мероприятий, предусмотренных соглашением, с соблюдением определенных условий или предоставлением отчетов органами исполнительной власти (Рогова, 2016).
Следующий блок полномочий Конгресса обусловлен проведением надзорных слушаний и расследований по вопросам политики в области национальной безопасности и получением отчетов от органов исполнительной власти. Например, комитеты по вооруженным силам требуют предоставления ежегодного отчета от Совета по ядерному оружию33.
К полномочиям Конгресса, передаваемым ему на рассмотрение президентом, относится выражение совета и согласия (advice and consent) Сената на ратификацию международных договоров и утверждение в должности высших государственных лиц, включая министров обороны и энергетики, государственного секретаря, их заместителей и помощников, а также дипломатических представителей США (согласие Сената не требуется при назначении советника по национальной безопасности)34.
Поскольку заключение международных соглашений является важным элементом режима контроля над вооружениями, следует более подробно рассмотреть возможные формы их заключения со стороны США. Конституция США закрепляет такую форму, как договор (treaty). Для его вступления в силу необходимы, во-первых, совет и согласие 2/3 членов Сената (обычно это 67 голосов) и, во-вторых, ратификация договора Президентом США (Kennedy, 1991, p. 18).
Палата представителей, занимаясь в основном внутриполитическими вопросами (Richards, 1953, p. 67), на процесс заключения международных соглашений оказывает влияние только в том случае, если президент включит обязательства по контролю над вооружениями в документ, известный как соглашение между Конгрессом и исполнительной властью (congressional-executive agreement). Тогда обе палаты должны будут проголосовать за его принятие простым большинством голосов. В качестве примера такого доку- мента можно привести Временное соглашение о некоторых мерах в области ограничения стратегических наступательных вооружений 1972 года (ОСВ-1) (Stone, 2002, p. 315).
Кроме соглашений между Конгрессом и исполнительной властью, существуют также исполнительные соглашения (executive agreement). Они заключаются президентом на основании предоставленных ему американской конституцией полномочий проводить внешнюю политику и не нуждаются в одобрении парламентом, но при этом имеют обязательную юридическую силу35. Однако, как показывает историческая практика36, конгрессмены пытаются оспорить любую попытку президента заключить международное соглашение в такой форме.
В Конгрессе США, как и в исполнительных ведомствах, есть свои игроки, придерживающиеся разных взглядов на решение проблем. Некоторые парламентарии видят свою роль в поддержке президента, если он принадлежит к той же политической партии. У других есть сильные идеологические позиции, определяющие выбор того или иного подхода (Halperin and Clapp, 2006, p. 333). Среди акторов Конгресса можно выделить не только самих парламентариев. Поскольку конгрессменам приходится сталкиваться с большим объемом работ, к их выполнению они активно привлекают сотрудников своего аппарата. Последние просеивают и отбирают информацию, которая может быть представлена в критический момент процесса принятия решений в Конгрессе, а также являются важными связующими звеньями между комитетами Сената и Палаты представителей и профильными исполнительными органами власти (Patterson, 1970, pp. 35–36).
Таким образом, с одной стороны, роль Конгресса США в вопросах контроля над вооружениями может быть ощутимой, поскольку в его распоряжении, особенно у Сената, есть для этого необходимый объем полномочий. С другой стороны, с реализацией этих полномочий на практике возникают сложности в силу межпартийного противостояния внутри Конгресса и «перетягивания каната власти» с президентом (Журавлева, 2011, с. 13). Кроме того, эксперты отмечают недостаточное число конгрессменов, вовлеченных в обсуждение политики в отношении ядерного оружия, и низкую степень приоритетности для Конгресса данного направления (Woolf, 2007, p. 503).
Итак, разработка и осуществление политики США в сфере контроля над ядерными вооружениями – сложный процесс, в котором задействованы многие субъекты, институты и интересы. Основную роль в нем играет Президент США. При принятии решений он в первую очередь консультируется с членами СНБ, а также опирается на советников, руководителей профильных ведомств, которых с согласия Сената сам и назначает, и их советников. К профильным ведомствам относятся Государственный департамент, мини- стерства обороны и энергетики. Конгресс США в вопросах контроля над ядер-ными вооружениями выступает скорее младшим партнером, но тем не менее обладает полномочиями, способными значительно корректировать утвержденный президентом курс. В результате сложившаяся система характеризуется инертностью как в силу большого количества участников, так и в силу противодействия изменениям со стороны бюрократического аппарата.
Далее в самом общем виде рассмотрим, какой позиции придерживались и как на практике взаимодействовали исполнительная и законодательная ветви власти в решении проблем контроля над ядерными вооружениями после холодной войны.
Политика США в сфере контроля над ядерными вооружениями после холодной войны
Период президентства Дж. Буша-старшего (1989–1993)
Геополитические изменения, вызванные окончанием холодной войны, обусловили корректирование ядерной политики США с учетом новых реалий, но не полный пересмотр ее принципов. Подход администрации бывшего в то время на президентском посту Дж. Буша-старшего являлся в значительной степени продолжением практики холодной войны, основанной на вере в «мир через силу», подозрении СССР / России в модернизации ядерного оружия и неуверенности в успехе советских / российских реформ, несмотря на провозглашение новых стратегических отношений между странами. Это вызвало крайнюю осторожность в ядерной политике и процессе сокращения ядерных вооружений (Ritchie, 2009, p. 30–31). Договоры о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1 и СНВ-2) и президентские ядерные инициативы (Presidential Nuclear Initiatives) об одностороннем сокращении тактического ядерного арсенала37 уравновешивались планами по модернизации стратегических ядерных сил и сохранением стратегической триады – межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и стратегических бомбардировщиков, а также «возвратного потенциала» – отправленных в резерв ядерных боезарядов (Paulsen, 1994, p. 45). Белый дом не сформулировал новое стратегическое видение в ядерной сфере, но настаивал на том, что США должны осторожно сократить и при этом модернизировать ядерную триаду.
Тем не менее находившийся под контролем демократов Конгресс, требовавший сокращения оборонного бюджета и прекращения гонки ядерных вооружений, предпринял ряд шагов по переориентации ядерной политики и вынудил администрацию скорректировать свою концепцию стратегической стабильности. Программы модернизации тактического и стратегического ядерного оружия были жестко ограничены, ядерные испытания прекращены. Однако президент успешно сопротивлялся давлению Конгресса осуществить еще более глубокое сокращение ядерных сил (Ritchie, 2009, pp. 31–32).
Период президентства Б. Клинтона (1993–2001)
С приходом к власти президента – демократа Б. Клинтона и установлением демократического большинства в Конгрессе многие члены сообщества по контролю над вооружениями ожидали значительного изменения ядерной политики в сторону минимального сдерживания. Несмотря на первоначальные признаки серьезного сдвига в политике в отношении ядерного оружия, администрация по-прежнему придерживалась концепции стратегической стабильности времен холодной войны (Müller and Schaper, 2004, pp. 21–22). Концепция основывалась на ядерном паритете с Россией, крупных ядерных силах, находящихся в состоянии повышенной боевой готовности, стратегической триаде для сдерживания российского первого удара, способности нанести быстрый и массированный ответный удар по военным и гражданским объектам и ядерном резерве противника (Ritchie, 2009, p. 55). Эти идеи получили официальное оформление в Обзоре ядерной политики 1994 года38, в котором акцент был сделан на двустороннем процессе контроля над ядерными вооружениями, в частности на Договоры о СНВ-2 и СНВ-3, и сохранении Договора об ограничении систем противоракетной обороны. Предложения сторонников минимального сдерживания о переходе на диаду (баллистические ракеты подводных лодок и стратегические бомбардировщики) и снятии с боевого дежурства части развернутых сил были отклонены. Как утверждает помощник государственного секретаря США по контролю над вооружениями при Б. Клинтоне Э. Болен, администрация не ставила под сомнение актуальность для постбиполярного мира структуры, сложившейся в годы биполярного противостояния, и не предпринимала никаких усилий для переосмысления концепции стратегической стабильности (Bohlen, 2003, p. 30).
Такой подход привел к серьезным разногласиям с Конгрессом, который после 1994 года контролировали республиканцы. Конгресс помешал Б. Клинтону сократить ядерные вооружения ниже уровня, установленного Договором о СНВ-1, до вступления в силу Договора о СНВ-2, проголосовал против ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и поддержал разработку и развертывание систем противоракетной обороны. К 1996 году стало ясно, что процесс сокращения стратегических наступательных вооружений находится под угрозой, в 1997 году не был подписан Договор о СНВ-3. Это усугублялось растущим на протяжении 1990-х годов недоверием России к американской политике национальной безопасности (Ritchie, 2009, pp. 55–56).
В конце 1990-х годов на роль «примерно равного соперника» США стал претендовать Китай. В соответствии с подписанной Б. Клинтоном президентской директивой № 60 «Указания по политике применения ядерного оружия» (PDD/NSC 60)39 впервые после 1982 года в Единый интегрированный опера- тивный план применения ядерных сил (Single Integrated Operational Plan) были включены цели на территории Китая. Кроме Китая, в плане было предусмотрено нанесение превентивных ударов по «подозреваемым» странам: Ираку, Ирану и КНДР – будущей «оси зла» президента Дж. Буша-младшего (Бужин-ский и Веселов, 2018, с. 10).
Период президентства Дж. Буша-младшего (2001–2009)
После терактов 11 сентября 2001 года политика в области ядерного оружия США определялась переосмыслением понятий стратегической стабильности и ядерного сдерживания. Новая позиция, изложенная в Обзоре ядерной политики 2001 года, критиковала приверженность Б. Клинтона концепции стратегической стабильности времен холодной войны. Акцент на многочисленные двусторонние ограничения, интрузивный контроль и обеспечение строгого паритета и взаимной уязвимости был отвергнут как часть устаревшего состязательного подхода к контролю над вооружениями и к американо-российским отношениям, имевшего мало общего с новой концепцией стратегической стабильности. В этой концепции России отводилась роль уже не стратегического противника, а партнера в решении проблем распространения оружия массового уничтожения, международного терроризма и региональной нестабильности.
Символом новой реальности стал Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов (СНП) 2002 года, который заменил не вступивший в силу Договор о СНВ-240. Договор обязывал стороны сократить количество развернутых ядерных боеголовок до 1700–2200 единиц к 2012 году. При этом «каждая из сторон сама определяла состав и структуру своих стратегических наступательных вооружений, исходя из установленного суммарного предела для количества таких боезарядов»41. Договор о СНП получил согласие на ратификацию республиканским Конгрессом, но подвергся критике со стороны демократов за отсутствие мер проверки, медленные темпы сокращения и возможность переместить боеголовки из развернутого состояния в резервное42.
Обзор ядерной политики 2001 года также наметил контуры модернизации классической ядерной триады43, которые окончательно сформировались при Б. Обаме, а реализовываться стали при Д. Трампе. Были приняты решения о сохранении наземного компонента триады, несмотря на очередные предложения сторонников минимального сдерживания перейти к диаде, а также о создании нового стратегического бомбардировщика и новой крылатой ракеты в ядерном оснащении для него (Бужинский и Веселов, 2018, с. 13).
Однако отсутствие долгосрочных планов по восстановлению ядерного арсенала и реорганизации комплекса по его производству привело к тому, что изложенные в Обзоре ядерной политики 2001 года инициативы не получили запрашиваемого финансирования со стороны Конгресса, хотя до 2007 года он находился под полным контролем республиканцев.
Период президентства Б. Обамы (2009–2017)
Приоритетным направлением ядерной политики Б. Обамы стало озвученное в Пражской речи движение к безъядерному миру, что подразумевало, среди прочего, снижение роли ядерного оружия в Стратегии национальной безопасности США, дальнейшее количественное сокращение ядерных сил и укрепление режима Договора о нераспространении ядерного оружия44.
-
8 апреля 2010 года в Праге лидерами России и США был подписан Договор о СНВ-3. Он заменил Договор о СНВ-1 и Договор о СНП и обязал стороны сократить уровень стратегических наступательных вооружений до 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков, до 1550 единиц для их ядерных боезарядов. В отличие от Договора о СНП, новый договор включал важное положение о проведении взаимных инспекций и обмене телеметрической информацией о пусках ракет45.
Договор о СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года после его ратификации обеими сторонами. В США она стала возможной после достижения в Сенате консенсуса между республиканцами и демократами, поскольку у демократов не было большинства в 2/3 голосов, необходимого для выражения согласия на ратификацию. Консенсус заключался в том, что предварительным условием для поддержки республиканцами Договора о СНВ-3 было согласие демократов на полное финансирование ядерной модернизации, равно как и наоборот – для поддержки демократами модернизации ядерных сил предварительным условием было одобрение республиканцами ратификации нового договора46. Выполняя взятые на себя обязательства, президент в федеральном бюджете на 2016 год заложил основу для масштабного обновления ядерного арсенала страны и научно-исследовательских лабораторий Министерства энергетики США на общую сумму $ 1 трлн, рассчитанную на 30 лет47. Из всего перечня при Б. Обаме были обновлены только национальные лаборатории, занимающиеся разработкой ядерного оружия. Решение вопроса о создании
-
V. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ новых бомбардировщиков, ракет наземного базирования и подводных лодок президент оставил своему преемнику48.
Период президентства Д. Трампа (2017–2021)
Истоки политики Д. Трампа в сфере контроля над вооружениями уходят в конец 1990-х годов: именно тогда США стали рассматривать Китай в качестве одного из своих соперников. Со временем соперничество с Китаем и его невключенность в процессы контроля над вооружениями на фоне наращивания им военной мощи и превращения в одного из основных ядерных игроков обусловили снижение интереса США к двустороннему контролю над вооружениями с Россией. Президент без консультаций с Конгрессом объявил о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Напомним, согласно данному договору в 1987 году стороны взяли на себя обязательство ликвидировать все комплексы ракет средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности, пусковые установки для них и вспомогательные сооружения, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем49.
Вашингтон еще в 2013 году начал обвинять Россию в нарушении условий договора. По мнению российских экспертов Е. П. Бужинского и В. А. Веселова, именно в тот период, период разворота США в сторону Азии и обострения их противостояния с Китаем, который, в отличие от США и России, активно разрабатывал ракеты средней и меньшей дальности50, и было принято, хотя и не реализовано на тот момент, решение о выходе США из Договора о РСМД (Бужинский и Веселов, 2018, 19). Выход из договора поддержали все ключевые лица исполнительной ветви власти, участвующие в разработке ядерной политики США: профильные министры51, советник по национальной безопасности52, главы военных ведомств53 и директор Национальной разведки54.
Иная ситуация сложилась вокруг Договора о СНВ-3. Политический истеблишмент в целом выступил против его продления, а военный – полностью поддержал, высоко оценивая закрепленные в новом договоре положения о верификации, включая обмен данными, регулярные уведомления и инспекции на местах, уменьшающие неопределенность и непредсказуемость в российско-американских отношениях55. Тем не менее повлиять на решение президента отказаться от продления Договора о СНВ-3 в пользу заключения нового – с обязательным участием в нем Китая – военные круги не смогли.
На фоне развала архитектуры контроля над вооружениями значительно выросли расходы США на модернизацию ядерного оружия (Reif and Bugos, 2020). В период работы 115-го Конгресса (2017–2019), когда большинство в обеих палатах составляли республиканцы, президенту было проще взаимодействовать с парламентом и находить у него поддержку своим инициативам по обновлению ядерного арсенала, чем в условиях контроля нижней палаты 116-го Конгресса (2019–2021) демократами. Односторонний подход администрации Д. Трампа к контролю над вооружениями – стремление избавиться от действующих договоров без консультаций с Конгрессом – бросил вызов достигнутому между республиканцами и демократами консенсусу в отношении финансирования программ модернизации при условии сохранения договоров по сокращению и ограничению ядерных вооружений. Отказ от открытого диалога с Конгрессом усилил противодействие со стороны Палаты представителей при обсуждении и принятии оборонного бюджета. Ее попытки запретить выделение средств на закупку и развертывание новых наземных крылатых и баллистических ракет, ранее запрещенных Договором о РСМД, увенчались успехом56.
Подводя итог, отметим, что политика США по контролю над вооружениями после холодной войны не носила последовательный характер: в правительственных кругах обсуждались конкурирующие наборы идей, которые, с одной стороны, получали поддержку в зависимости от расклада политических сил в администрации и Конгрессе в конкретный период, а с другой – зависели от состояния отношений с Россией. Так, за прорывом в 1990-х годах, результатом которого было заключение Договоров о СНВ-1 и СНВ-2, последовал провал 2000-х годов, когда достижение договоренностей по ограничению ядерных вооружений времен холодной войны было признано устаревшим подходом и практически сошло на нет. С приходом Б. Обамы начавшаяся «перезагрузка» затронула также и сферу контроля над вооружениями и привела к заключению Договора о СНВ-3. Однако разворот США в сторону Азии определил смену ключевого стратегического соперника США – место России занял увеличивающий свою военную мощь Китай, – что обусловило принятие США решения выйти из Договора о РСМД, реализацией которого занялся Д. Трамп.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенный в первой части статьи анализ институциональной структуры и механизма принятия решений в сфере контроля над ядерными вооружениями в США показал, что в этом механизме задействовано большое количество акторов, основными антагонистами среди которых выступают Президент США и Конгресс. Разветвленность институциональной структуры объясняет полученные во второй части статьи выводы о постоянной дискуссии в высших эшелонах власти по поводу направленности политического курса в отношении контроля над вооружениями и о нелинейности развития американской политики в данной сфере.
В то же время было установлено, что значительная разветвленность механизма принятия решений в США обусловливает его большую «инертную массу», а государственные служащие – высокий «коэффициент трения», что не позволяет бюрократическому аппарата резко тормозить и моментально менять одно направление движения на другое, обеспечивая таким образом некоторую степень преемственности политики. Начиная с 1990-х годов политика США определялась необходимостью модернизировать ядерные вооружения для сдерживания российской и все более растущей китайской угрозы. При этом США никогда полностью не прекращали свое участие в режиме контроля над вооружениями, даже в период президентства Дж. Буша-младшего и Д. Трампа.
Список литературы Институциональные аспекты политики США в сфере контроля над ядерными вооружениями после холодной войны
- Антонов А. И. Контроль над вооружениями: история, состояние, перспективы. М.: РОССПЭН; ПИР-Центр, 2012. 245 с.
- Безруков А. Механизм принятия внешнеполитических решений в США: между национальным и частным интересом // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2015. Т. 8, № 5. С. 98-107. EDN: UXKEBB
- Безруков А. О., Сушенцов А. А. Феномен Д. Трампа и сценарии развития российско-американских отношений // Сравнительная политика. 2018. Т. 9, № 1. C. 109-123. DOI: 10.24411/2221-3279-2018-00009 EDN: YRIDQS
- Бубнова Н. И. Новая Стратегия национальной безопасности администрации Д. Трампа // Россия и современный мир. 2019. № 1. С. 48-71. DOI: 10.31249/rsm/2019.01.04 EDN: ERHAOU
- Бужинский Е. П., Веселов В. А. Ядерная политика США в XXI веке: преемственность и различия в подходах администраций Дж. Буша-мл., Б. Обамы и Д. Трампа // Вестник Московского университета. Сер. 25. Международные отношения и мировая политика. 2018. Т. 10, № 3. С. 3-47. EDN: FCRDRC