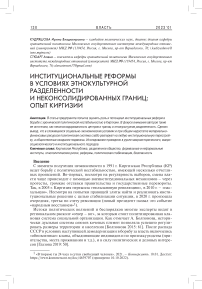Институциональные реформы в условиях этнокультурной разделенности и неконсолидированных границ: опыт Киргизии
Автор: Кудряшова Ирина Владимировна, Стюарт Алена
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политология
Статья в выпуске: 1, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринята попытка оценить роль и потенциал институциональных реформ в борьбе с хронической политической нестабильностью в Киргизии. В фокусе внимания авторов такие ее источники, как неконсолидированность центров и границ и этнокультурная разделенность. Сделан вывод, что в сложившихся социально-экономических условиях и при общем недостатке материально-финансовых ресурсов политическая система слабо реагирует на любую институциональную перестройку, а общественные ожидания подвижны. Исследование проведено в русле макроисторического, макросоциологического и институционального подходов.
Киргизская республика, разделенное общество, формальные и неформальные институты, этнополитические риски, реформы, политическая стабилизация, безопасность
Короткий адрес: https://sciup.org/170198074
IDR: 170198074 | DOI: 10.31171/vlast.v31i1.9474
Текст научной статьи Институциональные реформы в условиях этнокультурной разделенности и неконсолидированных границ: опыт Киргизии
С момента получения независимости в 1991 г. Киргизская Республика (КР) ведет борьбу с политической нестабильностью, имеющей несколько отчетливых проявлений. Во-первых, несмотря на регулярность выборов, смена власти чаще происходит с помощью внеинституциональных механизмов – через протесты, громкие отставки правительства и государственные перевороты. Так, в 2005 г. Киргизия пережила «тюльпановую революцию», в 2010 г. – «пасхальную». Несмотря на попытки правящей элиты найти и реализовать институциональные решения с целью стабилизации ситуации, в 2020 г. произошла очередная, третья по счету революция (новый президент назвал это событие «народным восстанием»1).
Истоки политических волнений и беспорядков многие эксперты видят в региональном расколе «север – юг», за которым стоит политизированная клановая система социальной организации. Как отмечает А. Болпонова, исторически дуальная система союзов кочевых племен позволяла успешно регулировать размеры территории и населения [Болпонова 2015: 61]. После распада СССР в условиях наступившей демодернизации в борьбу за власть включились «обновленные» кланы, объединяющие индивидов и по признаку родства (приятельства, места проживания и т.д.), и в силу политических и деловых интересов [Глазова 2019: 50].
Во-вторых, на юге страны периодически возникают межэтнические столкновения. Там проживает основная часть узбеков страны, а также казахи, турки-месхетинцы, татары, каракалпаки, уйгуры, украинцы, русские и другие меньшинства. Тесное соседство при недостатке ресурсов ведет к конфликтам и создает почву для распространения экстремистских настро-ений1. Так, в 1989 г. произошел крупный конфликт между узбеками и турками-месхетинцами. Серьезные столкновения между киргизами и узбеками имели место в 1967, 1990 и 2010 гг. Причины этих всплесков насилия до настоящего времени официально не определены и, соответственно, не устранены.
В-третьих, продолжаются конфликты по поводу государственных границ. На киргизско-таджикской границе насчитывается около 70 спорных участков (по оценкам, они составляют примерно 30% ее общей протяженности). Последний из череды подобных конфликтов вспыхнул в сентябре 2022 г. Такие же территориальные проблемы осложняют отношения Киргизии и Узбекистана. Консультации по разрешению приграничных споров продолжаются, но прийти к соглашению по многим участкам очень сложно, поскольку они являются критически важными для доступа населения к посевным полям, пастбищам или воде.
Хроническая политическая нестабильность, отягощенная социально-экономическими проблемами, позволяет охарактеризовать Киргизию как уязвимое, или хрупкое государство [Elagin 2021]. По данным Fragile States Index 2, Киргизия в 2022 г. оставалась в группе стран высокого риска (оценка 77,1 из максимально возможных 120 баллов). Уровень бедности по стране составил в 2021 г. 33,3% общей численности населения, а уровень крайней бедности – 6,0%3. Среди других факторов неблагополучия – перенаселенность Ферганской долины4 (плотность населения в ней достигает 360 чел. на кв. км5, а в некоторых районах колеблется от 1 000 до 5 000 чел. на кв. км6), высокий уровень безработицы (о чем также свидетельствует масштаб трудовой миграции – от 800 тыс. до 1 млн граждан КР, т.е. около 40% ее трудоспособного населения, регулярно работают за рубежом7), отсутствие центров экономического роста.
Очевидно, что если усилия для преодоления хронической политической нестабильности не предпринимаются, то такое государство может оказаться несостоятельным и даже утратить суверенность [Ilyin et al. 2012]. Политические элиты КР такие усилия предпринимают и пытаются найти решение в реформах политико-институциональной сферы, однако без видимого результата. Следуя позиции Б. Вайнгаста и Д. Уитмана, которые увязывают выживаемость институтов с их историческим генезом [Weingast, Wittman 2006], мы попытаемся выяснить причины неэффективности проводимых реформ (и оценить общий потенциал институционального реформирования) на основе макро-исторического подхода. Имплементация выбранного подхода осуществлена при опоре на критерии, разработанные ОЭСР [Elagin 2021: 115]. В фокусе статьи будет анализ рисков, порождаемых в первую очередь этнокультурной разнородностью (под которой мы имеем в виду не только этнический состав, но и «обновленную клановость») [Метаморфозы… 2020: 127-129], а также неконсо-лидированностью центров и границ.
Неконсолидированные границы и этнокультурная разнородностькак источник политических рисков и кризисов
Неконсолидированность границ Киргизии, как и других государств региона, во многом предопределена национально-территориальной политикой предшествующего периода. В результате тяжелой борьбы с басмаческим движением в 1920-е гг. советское руководство, стремясь снизить риски сепаратизма, провело ряд реформ, часто противоречивых и поспешных [Масов 1988]: границы, как и статус советских республик (союзная – автономная), неоднократно менялись. Противоречивость административно-территориальной и культурной политики СССР привела к тому, что после его краха административно-политические, экономические и культурные центры и границы новых государств не совпадали [Кудряшова, Мелешкина 2009: 51].
Для КР эта проблема выражается не только в пограничных конфликтах, но и в том, что Бишкек является центром политической и экономической жизни, а Ош существует в исторической памяти как «южная столица», город, который на протяжении веков играл важную политическую, экономическую и культурную роль, будучи главной остановкой на ферганской ветке Шелкового пути. Именно на юге были расположены традиционные религиозные центры. Даже после репрессий советского периода и установления «официального ислама»1 в Ферганской долине нелегально продолжалось обучение «истинному» (неофициальному) исламу. Сохраняя свой исторический статус, Ош, однако, потерял ряд промышленных объектов: после распада СССР киргизско-узбекская граница отрезала часть экономической и торговой инфраструктуры города. Это привело к усилению диспропорции между севером и югом страны: например, промышленные доли ВВП в Бишкеке и Чуйской обл. – 22,5% и 36,2%, а в Ошской обл. и г. Оше – 3,8 и 1,6%2.
Важной чертой киргизского общества выступает этнокультурная разнородность. Центральные и восточные районы страны населены в основном кир- гизами1 и имеют низкий уровень этнического разнообразия, в Чуйской обл. и Бишкеке традиционно проживает основная часть народов славянского происхождения, а на юге высока доля узбеков и таджиков [Мкртчян, Сарыгулов 2011]. Помимо этнической, присутствует и клановая сегментация. В ходе исторического развития и естественной самоорганизации кочевого сообщества возникли два крыла, изначально объединявшие племена по территориальному признаку [Годы, которые изменили… 2009: 102]: правое крыло – «онг» (замыкается на одном южном клане – адыгине), левое крыло – «сол» (северные и западные кланы) и группировка «ичкилик» (также южная, основу которой составляют кланы кипчакского происхождения, включающие казахов и узбеков)2. Объединяя и упорядочивая родоплеменные объединения, клановая система до сих пор выступает регулятором социально-политической жизни киргизов [Асанканов, Осмонов 2002: 89].
Особенность этой системы А. Болпонова видит в том, что борьба за власть и доступ к ресурсам ведется не только между кланами, но и между племенами внутри них, следствием чего является формирование различных региональнородовых балансов и рост внутренней конфликтности [Болпонова 2015].
Таким образом, революции 2005 и 2010 гг. вряд ли целесообразно рассматривать через призму политической борьбы между сторонниками демократизации и «сильной власти»: повторяющийся паттерн свидетельствует, что теорий демократизации и консоционализма [Харитонова 2021] недостаточно для осмысления киргизского опыта. Сценарий остался неизменным и в 2020 г.: после стремительных и масштабных протестов, вызванных «нечестными» предварительными результатами парламентских выборов, предыдущий президент подал в отставку, а новый избранник пообещал «не сворачивать с демократического пути»3 и провел очередной референдум по изменению Конституции.
Институциональные попытки политической стабилизации
В попытках преодолеть этнокультурную разделенность Киргизии и сдержать центростремительные силы были опробованы различные институциональные решения. Они проводились через внесение изменений и добавлений в Основной закон (конституция в стране менялась за последние 30 лет 10 раз) и законы о выборах.
Главным объектом институциональных изменений стала система контроля над правительством: с момента независимости власть передавалась от президента к парламенту, затем к премьеру [Блохина 2017]. После референдума 2021 г. власть снова перешла к президенту, и в стране установилась президентская или даже «суперпрезидентская» форма правления (для нее характерны гипертрофированные президентские полномочия и несбалансированные отношения между ветвями власти). Состав Жогорку Кенеша сократился со 120 до 90 чел., избираемых сроком на 5 лет. Президент получил возможность назначать кабинет министров и руководителей региональных администраций, устанавливать дату парламентских выборов и вводить режим чрезвычайного поло- жения, а также расширил контроль над судебной властью. Помимо этого, по инициативе президента создана платформа для созыва Народного Курултая1, участники которого наделяются правом законодательной инициативы и могут вносить главе государства предложение об освобождении от должности членов правительства и руководителей иных органов исполнительной власти.
Вторым заметным направлением реформ стал пересмотр избирательной системы, которая с 1991 по 2000 г. была мажоритарной, в 2000–2003 гг. – пропорциональной, в 2003–2007 гг. – вновь мажоритарной и в 2007–2021 гг. – вновь пропорциональной. В 2021 г. было решено установить смешанную (параллельную) систему с закрытыми списками: 54 депутата от политических партий избираются по пропорциональной системе в одном общенациональном округе, и 36 депутатов – по одномандатным округам по мажоритарной системе (право выдвижения кандидатов принадлежит политическим партиям и гражданам путем самовыдвижения). Избирательный порог был снижен с 7% до 5%, каждая партия также должна получить не менее 0,7% голосов в каждой из семи областей страны и не может занимать более 65 мест.
Принимались и определенные меры по регулированию межэтнических отношений. В 2011 г. был создан отдел межэтнического развития и религиозной политики в рамках аппарата президента, сегодня эти задачи возложены на администрацию президента, кабинет министров и Народный Курултай. В 2021 г. была принята концепция развития гражданской идентичности Кыргыз жараны (Киргизский гражданин) на период 2021–2026 гг. Она является продолжением Концепции укрепления единства народа и межэтнических отношений в КР на 2013–2017 гг., которая была разработана после событий 2010 г. В ней подчеркнута необходимость создания общегражданской идентичности, «объединяющей все этнические сообщества при сохранении ими своей этнокультурной идентичности»2. Вместе с тем узбекский язык не получил какого-либо официального статуса.
В настоящий период этнокультурная разделенность и слабость формальных институтов делают политическую систему Киргизии маловосприимчивой к попыткам перестройки. В целом результаты институциональных реформ противоречат логике А. Лейпхарта и его последователей, согласно которой репрезентативные (парламентские) модели способствуют поддержанию порядка во фрагментированных обществах.
Институциональные попытки политической стабилизации: альтернатива
Действительно, репрезентативные модели способствуют жизнеспособности институтов разделенных обществ, но это происходит главным образом в относительно развитых экономически странах и при невысокой степени гетерогенности [Powell 1982]. П. Кольер был одним из тех, кто предупреждал, что попытки построить демократию в странах «нижнего миллиарда» в условиях разделенного общества не увенчаются успехом, поскольку экономические затраты на электоральную борьбу будут дисфункциональны как для экономи- ческого роста страны, так и для самого режима, а система сдержек и противовесов будет размытой в силу острой борьбы за ресурсы, хотя именно она является одним из главных условий экономического роста [Collier 2007].
По-иному взглянуть на проблему политической стабилизации Киргизии позволяют исследования Дж. Селвея и Х. Темплмана [Selway, Templeman 2012]. Они содержат анализ данных, которые выходят за пределы изначальных исследований по эффективности консоциации и позволяют сделать вывод, что многие глубоко разделенные страны при слабой экономике добиваются большей стабильности именно при сильной централизированной власти [Mainwaring 1993], в то время как четкая корреляция между консоциативными моделями и снижением конфликтного потенциала разделенных стран отсутствует. В связи с этим президентская система, мажоритарная партийная система и унитарное устройство могут быть более эффективным решением для таких сообществ, как киргизское.
Центростремительные тенденции, обусловленные таким форматом институционального дизайна, способны обеспечить более стабильное развитие политической системы. Широкие полномочия президента в области контроля над правительством помогут преодолеть такую проблему, как слабая и раздробленная партийная система, и тем самым снизить вероятность правительственного паралича в результате распада коалиционного большинства (как часто происходит в Жогорку Кенеше). Они также позволят осуществлять кризисное управление и более эффективно обеспечивать население ресурсами [Alesina et al. 2003]. Унитаризм способствует укреплению политического центра и снятию вопроса о его неконсолидированности, в отличие от федерализма, который придает легитимность требованиям отдельных субъектов федерации, что создает риски сецессии.
Однако насколько реализуема эта модель в киргизских реалиях? Судя по результатам опросов, в настоящий момент она соответствует культурным ориентациям и ожиданиям киргизских граждан. Так, в соответствии с World Values Survey Wave 7 (2017–2022)1, 62% граждан КР предпочли бы безопасность свободе (вопрос 150), 57,6% (против – 9,5%) отдают приоритет национальному порядку перед свободой слова (вопрос 154). Наконец, 30,4% респондентов хотели бы видеть во главе страны сильного лидера, который не зависит ни от парламента, ни от выборов, и 31,9% считают такую систему «достаточно хорошей» (вопрос 235). Однако «сильные лидеры» во главе Киргизии уже были (как представляется, к ним можно отнести К. Бакиева), но консолидировать общество не удалось.
Заключение
Как показал проведенный анализ, сами по себе институциональные реформы не могут справиться с хронической политической нестабильностью, обусловленной историко-политическими, социокультурными и экономическими причинами. Их эффект проявляется скорее в другом: при каждом новом раунде изменения властного баланса они порождают позитивные общественные ожидания и тем самым на некоторое время стабилизируют ситуацию. Понимание того, что эти «передышки» должны быть использованы для решения задач экономики и безопасности, у киргизских элит присутствует. Поиск партнеров и спонсоров обозначается в политическом дис- курсе как многовекторное развитие, которое на деле зачастую определяется сиюминутной выгодой и краткосрочными нуждами. Однако при существующей геополитической и геоэкономической ситуации всем центральноазиатским странам придется разрабатывать более практические и долгосрочные планы [Сафранчук, Жорнист, Несмашный 2021]. Объективно наиболее заинтересованным партнером для Киргизии на данный момент выступает Россия, особенно учитывая ее разворот на глобальный Восток и перенаправление внешних связей на Азию. Углубление двустороннего и регионального сотрудничества в рамках ЕАЭС (а также ОДКБ и ШОС) будет иметь позитивные последствия для политической и экономической стабилизации. Подобное сотрудничество, опирающееся на длительный опыт развития Киргизии в советский период, может содействовать решению таких проблем, как модернизация экономики, включая энергетический блок, упорядочение трудовой миграции и безопасность границ.
Список литературы Институциональные реформы в условиях этнокультурной разделенности и неконсолидированных границ: опыт Киргизии
- Асанканов А.А., Осмонов О.Дж. 2002. История Кыргызстана (с древнейших времен до наших дней): учебник для вузов. Бишкек. 345 с.
- Блохина А.О. 2017. Институциональные изменения и политическая стабильность в Киргизской Республике. - Вестник МГИМО-Университета. № 6(57). С. 102-115.
- Болпонова А. 2015. Политические кланы Кыргызстана: история и современность. — Центральная Азия и Кавказ. Т. 18. № 3-4. С. 57-72.
- Глазова Е.С. 2019. Киргизия: институциональные изменения как выход из «ловушек развития». — Южно-российский журнал социальных наук. Т. 20. № 4. С. 49-62.
- Годы, которые изменили Центральную Азию (под ред. И. Звягельской). 2009. М.: Центр стратегических и политических исследований Института востоковедения РАН. 332 с.
- Кудряшова И.В., Мелешкина Е.Ю. 2009. Этнические меньшинства и национальное строительство на постсоветском пространстве: к постановке исследовательской проблемы. — Вестник МГИМО-Университета. № 2(5). С. 45-55.
- Масов Р.М. 1988. История исторической науки и историография социалистического строительства в Таджикистане. Душанбе: Дониш. 318 с.
- Метаморфозы разделенных обществ (под ред. И.В. Кудряшовой, О.Г. Харитоновой). 2020. М.: Изд-во МГИМО(У). 284 с.
- Мкртчян Н., Сарыгулов Б. 2011. Изменение этнического состава населения. — Население Кыргызстана в начале XXI в. (под ред. М.Б. Денисенко). Бишкек: UNFPA. С. 82-92.
- Сафранчук И.А., Жорнист В.М., Несмашный А.Д. 2021. Гегемония и мировой порядок: обзор концепции «сложной гегемонии». — Вестник международных организаций. Т. 16. № 1. С. 172-183. DOI: 10.17323/1996-7845-2021-01-09.
- Харитонова О.Г. 2021. Теория и практика консоционализма в ближневосточном контексте: новые грани старой проблемы. — Южно-российский журнал социальных наук. Т. 22. № 4. С. 61-80. DOI: 10.31429/26190567-22-4-61-80.
- Alesina A., Devleeschauwer A., Easterly W., Kurlat S., Wacziarg R. 2003. Fractionalization. — Journal of Economic Growth. Vol. 8. Is. 2. P. 155-194. DOI: https://doi.Org/10.1023/A:1024471506938.
- Collier P. 2007. The Bottom Billion: Why the Poorest Countries Are Failing and What Can Be Done About It. N.Y.: Oxford University Press. 224 p.
- Elagin D.P. 2021. Conceptual Perspectives on State Fragility. — Вестник МГИМО-
- Университета. Т. 14. № 4. С. 107-135. DOI: https://doi.org/10.24833/2071-8160-2021-4-79-107-135.
- Ilyin M., Khavenson T., Meleshkina E., Stukal D., Zharikova E. 2012. Factors of Post-Socialist Stateness. - SSRNElectronic Journal. Доступ: https://doi.org/10.2139/ SSRN.2020937 (проверено 21.10.2022).
- Mainwaring S. 1993. Presidentialism, Multipartism, and Democracy: The Difficult Combination. - Comparative Political Studies. Vol. 26. Is. 2. P. 198-228. DOI: https:// doi.org/10.1177/0010414093026002003.
- Powell G.B., Jr. 1982. Contemporary Democracies: Participation, Stability, and Violence. Cambridge: Harvard University Press. 294 p.
- Selway J., Templeman Kh. 2012. The Myth of Consociationalism? Conflict Reduction in Divided Societies. - Comparative Political Studies. Vol. 45. Is. 12. P. 1542-1571. DOI: https://doi.org/10.1177/0010414011425341.
- Weingast B.R., Wittman D.A. 2006. The Reach of Political Economy. - The Oxford Handbook of Political Economy. N.Y.: Oxford University Press. P. 3-26.