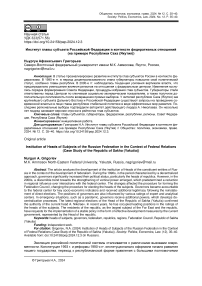Институт главы субъекта Российской Федерации в контексте федеративных отношений (на примере Республики Саха (Якутия))
Автор: Григорьев Ньургун Афанасьевич
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 12, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье проанализировано развитие института глав субъектов России в контексте федерализма. В 1990-е гг. в период децентрализованного этапа губернаторы повысили свой политический статус, особенно главы республик. В 2000-е гг. наблюдалась тенденция усиления вертикали власти, что предопределило уменьшение влияния регионов на отношения с федеральным центром. Изменения коснулись порядка формирования Совета Федерации, процедуры избрания глав субъектов. Губернаторы стали ответственны перед Центром по ключевым социально-экономическим показателям, а также получили дополнительную легитимность после возвращения прямых выборов. У жителей республики Саха (Якутия) как крупнейшего субъекта Дальнего Востока и Российской Федерации существуют запросы на проведение современной властью в лице главы республики стабильной политики в виде эффективных мер развития. Последние региональные выборы подтвердили авторитет действующего лидера А. Николаева. Он несколько лет подряд занимает верхние строчки в рейтингах глав субъектов.
Главы субъектов, губернаторы, федерализм, республики, регионы, совет федерации, республика саха (якутия)
Короткий адрес: https://sciup.org/149146650
IDR: 149146650 | УДК: 323(571.56) | DOI: 10.24158/pep.2024.12.3
Текст научной статьи Институт главы субъекта Российской Федерации в контексте федеративных отношений (на примере Республики Саха (Якутия))
президента, а также к рыночным приоритетам в смешанной российской экономике. Отечественная система власти пережила множественные кризисные моменты, сумев все же адаптироваться к современным условиям, что важно в период санкций и перехода к политике импортозамещения экономики.
В плане политико-административного устройства страной был выбран пусть построения федерализма, что логично в контексте обширности территории, разнородности регионов, многонационального и многоконфессионального устройства российского государства. На сегодня целый ряд стран мира развивает федеративные отношения в своих многосоставных политиях, при этом выбрав демократический путь развития (Elazar, 1987).
В мировой истории наиболее сильно принципы федерализма проявлялись в двух североамериканских государствах – США и Канаде. В первом – в виде конфедеративного устройства после войны за независимость в конце XVIII в. Здесь также появились различные теории, среди которых следует выделить концепции централизованного и децентрализованного федерализма, прав штатов и др. (Stepan, 1999).
В Канаде данный принцип организации государства институционально был реализован в XIX в., когда он получил статус доминиона. Появляются первые нормативные документы, разграничивающие полномочия федерального центра и провинций, среди которых следует выделить Конституционный акт 1867 г .1 На сегодня канадская федерация является децентрализованной, поскольку провинции имеют широкие полномочия. В то же самое время происходит торг в отношениях федеральных и провинциальных элит, в сфере межбюджетных отношений и т. д. Одним из важных факторов в развитии канадского федерализма стоит выделить так называемый «квебекский фактор», суть которого заключается в особом политико-правовом статусе франкоязычной провинции Квебек. По многим характеристикам Канада как ассиметричная федерация похожа на Россию – в силу географических, климатических особенностей, а также в вопросах бюджетного федерализма.
Российский вариант такого рода отношений между регионами начинается с 1990-х гг., с момента подписания Федеративного договора 1992 г .2 и принятия российской Конституции 1993 г .3 Были четко разделены полномочия федерального центра и регионов, совместные компетенции. Верхняя палата российского парламента – Совет Федерации (Сенат) – представляет интересы отдельных административных единиц страны, а губернаторы и главы местных законодательных собраний занимают в нем посты сенаторов. Последнее десятилетие XX в. характеризуют как период децентрализованного федерализма, в котором Центр передавал больше полномочий регионам (Туровский, 2013), были задействованы различные механизмы отношений с национальными республиками, депрессивными и модернизированными регионам и4.
Особые алгоритмы взаимодействия в 1990-е гг. были выстроены у центральной власти с республиками, в силу их особого статуса. С ними были заключены особые договоры о разделении полномочий в экономике, правах собственности, парадигмах межбюджетных отношений. Особым положением отличались: Республика Татарстан (глава – М. Шаймиев), Республика Башкортостан (глава – М. Рахимов), Республика Саха (Якутия) (глава – М. Николаев). Конфликты в Чеченской республике усугубляли этнополитическую ситуацию в стране. В конце 1990-х гг. появляется политическая партия «Отечество – вся Россия» (ОВР), выражавшая интересы губернаторов, одними из лидеров которой были мэр Москвы Ю. Лужков, бывший премьер-министр Е. Примаков.
Нормативно-правовая основа функционирования глав субъектов РФ прописана в Федеральном законе «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации »5. Среди из основных функций можно выделить:
-
– представительство региона в федеральных органах власти;
-
– законодательство на уровне региона;
-
– формирование ветви исполнительной власти, руководство ею;
-
– представление ежегодных отчетов местному законодательному органу власти, участие в заседаниях;
-
– оказание влияния на муниципальную власть путем отстранения от должности глав муниципальных образований и др.
В 2000-е гг. начинается новый этап развития российского федерализма, характеризующийся укреплением «вертикали власти» и централизацией федеративных отношений (Фарукшин, 2011). Одним из важных нововведений этого периода стало образование семи федеральных округов и внедрение института полномочных представителей президента. Целью административной реформы было приведение регионального законодательства в соответствие с общефедеральным, а также с общим запросом на стабилизацию во внутренней российской политике. Также в 2000 г. был изменен принцип формирования заседателей Совета Федерации – главы субъектов лишались возможности выступать в качестве сенаторов. Отныне представителями субъекта в парламенте назначались субъекты от исполнительной и законодательной власти региона. В этом контексте можно отметить повышение эффективности работы Совета Федерации. С другой стороны, сенаторами нередко назначались те, кто не был связан с регионом, который им предстояло представлять. Был ослаблен институт бикамерализма, или представительства субъектов в федеральном центре. Например, в США существует процедура избрания двух сенаторов от каждого штата, практикуется выборность конгрессменов в нижнюю Палату представителей.
В 2005 г. в рамках политики централизации федеративных отношений были отменены прямые выборы глав регионов. Реализация данной меры ознаменовала важный этап в эволюции российского федерализма. Президент РФ утвердил механизмы представления кандидатов на посты губернаторов через процедуру назначения местными парламентами. Также появилась возможность отрешения глав субъектов федерации от должности по утрате доверия. Часть губернаторского корпуса полностью одобрила реформы, мотивируя это необходимостью контроля за обновлением региональной власти и исключения ситуаций, когда во время выборов в некоторых субъектах побеждали кандидаты – антагонисты федерального центра (Алтайский край, Рязанская область, Архангельская область, Корякский АО) (Кынев, 2024).
В данный период была распространена практика назначения федеральным центром «губернаторов-варягов», не имеющих с курируемым ими регионом прямых связей для исключения лоббистских возможностей региональной власти.
В исследовании П. Панова были проанализированы различные аспекты специфики регионов: исторический, социокультурный, географический, социально-экономический, «значимость» региона в масштабах страны и его публично-правовой статус (Панов, 2022). В республиках федеральный центр предпочитал нечасто использовать практику назначения губернаторов из числа «варягов». В остальных аспектах не наблюдалось значимых корреляций с долей «пришлых» управленцев в губернаторском корпусе.
В 2012 г. президент России Д. Медведев провел политическую реформу избирательной и партийной систем: был осуществлен возврат к смешанной системе выборов депутатов Государственной Думы, а также облегчена процедура создания политической партии. Самым важным нововведением стало возвращение практики прямых выборов глав субъектов. С данного периода губернаторы снова получили дополнительную легитимность среди местного населения. Только несколько республик Северо-Кавказского федерального округа сохранили механизм избрания глав через местные законодательные органы власти.
Губернаторы после возвращения прямых выборов получили дополнительную легитимность, неся личную ответственность перед местным населением. Также они сохранили политическую подотчетность перед федеральным центром. В 2000 г. в России появился конституционный государственный и консультативно-совещательный орган власти – Государственный Совет, в который входят действующие губернаторы. 21 августа 2012 г. был принят Указ Президента РФ об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в котором были определены ключевые ее индикаторы (ожидаемая продолжительность жизни, численность населения, объем инвестиций в основной капитал и др.).
Положение губернаторов также зависит от рейтингов различных аналитических центров, с помощью которых измеряются социально-экономические, инвестиционные показатели регионов. Среди наиболее авторитетных можно отметить Национальный рейтинг губернаторо в1, который публикует результаты несколько раз в год на основании заочного и очного анкетирования, опросов представителей экспертного сообщества. Также выделяется рейтинг влияния глав субъектов РФ Агентства политических и экономических коммуникаций, основанный на результатах экспертного опроса для определения наиболее влиятельных губернаторов в России и реализуемый методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие 26 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.
В различных рейтингах первые позиции занимают следующие главы субъектов: мэр Москвы С. Собянин, глава Чеченской Республики Р. Кадыров, губернатор Санкт-Петербурга А. Беглов, президент Республики Татарстан Р. Минниханов и др.
Возникающие вызовы испытывают на прочность российскую политическую систему и экономику. Одним из них стала пандемия COVID-19. Весной 2020 г. в условиях ограничений федеральный центр начал передавать часть полномочий региональным органам власти. Главам субъектов РФ было поручено разработать и реализовать ряд мер по ограничению распространения инфекции. Теперь они самостоятельно определяли территорию для санитарных действий, могли вводить режим чрезвычайной ситуации, имели возможность приостановки деятельности предприятий и организаций, могли ограничивать передвижение лиц и транспорта. Кроме того, полномочия глав регионов были расширены в целях обеспечения оперативного простора в критической ситуации. Такое решение стало следствием того, что федеральный центр не мог подготовить унифицированные меры для всех регионов из-за разного уровня заболеваемости. Вынужденная децентрализация – одна из мер выравнивания ситуации.
В последние годы выстраивается особая модель региональной политики на Дальнем Востоке России по причине наличия совокупности социально-экономических, территориальных, географических, климатических и геополитических условий (Кузнецова, 2013). В контексте федерализма такая политика призвана консолидировать центральные и региональные уровни власти для достижения оптимальных целей в развитии территорий. Как отмечают исследователи Е. Бухвальд и О. Иванов, региональная политика должна перейти к «саморазвитию», что означает большую субъектность административных единиц (Иванов, Бухвальд, 2021). Поэтому было предпринято назначение полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе, имеющего статус вице-премьера в правительстве. Также существует отдельное Министерство по развитию Дальнего Востока, что подчеркивает приоритетность для центральных властей данного макросубъекта. Эффективность деятельности институтов управления во многом зависит от степени их взаимодействия с местными властями.
На Дальнем Востоке отметим Республику Саха Якутия как самый большой субъект, характеризующийся национальным образованием. Здесь также реализуется адресный подход в региональной политике, создаются особые экономические зоны и территории опережающего социальноэкономического развития (ТОРы). В 1990-е гг. в период договорных соглашений республика под предводительством М. Николаева одной из первых подписала договоры с федеральным центром о разграничении полномочий в социально-экономической сфере и вопросах собственност и1.
Региональная власть здесь формируется под воздействием разных факторов, среди которых можно отметить более закрытый тип местной национальной элиты. Значение имеет землячество, знакомства, родственные связи, что определяет более архаичный, или патриархальный, тип политической культуры. Развитие национальной культуры способствует формированию региональной идентичности, а в некоторых аспектах – и так называемого «трайбализма», когда происходит консолидация этноса по разным причинам.
Возвращение практики прямых выборов позволило провести выборы главы республики в 2014 г., когда бывший губернатор Е. Борисов пожелал переизбраться и обеспечить легитимность этого процесса. После его отставки очередные выборы прошли в 2018 г., на которых победил действующий глава региона А. Николаев. В тот год в России проходил электоральный цикл – президентские, а также региональные и местные выборы по всей стране. Результаты данной кампании в Хабаровске, Приморье, Якутске способствовали появлению дискурса об особой электоральной культуре населения Дальнего Востока России. В качестве причин указывалось на отдаленность региона от федерального центра, совокупность социально-экономических условий, неудовлетворенность реализацией предыдущего этапа развития Дальнего Востока.
В 2018 г. на выборах главы Якутии победил А. Николаев, выдвинутый партией «Единая Россия» и набравший 71,40 % голосов. Для местного электората образ регионального лидера А. Николаева был вполне положительным – его формировали средний возраст и успешная карьера – от министра финансов республики до мэра г. Якутска. При этом от КПРФ баллотировался В. Губарев, от ЛДПР – В. Парахин, от «Справедливой России» – В. Богданов. Явка на выборах составила почти 50 %. Для их обеспечения велась активная избирательная кампания, особенно в социальных сетях. К тому же в данный период начала реализовываться активная региональная политика на Дальнем Востоке и Якутии, разрабатывались крупные инвестиционные проекты.
В период пандемии COVID-19, когда губернаторы получили дополнительные полномочия, республиканским властям удалось стабилизировать социальную политику, что сказалось на занятии ими лидирующих позиций в различных рейтингах. Так, в 2021 г. А. Николаев занял 10 место среди глав субъектов России1. Среди его успехов рейтинговым агентством отмечались эффективные меры по борьбе с пандемией, поддержка рождаемости (проект главы республики «Дети столетия», который предполагает выплаты из республиканского бюджета по 100 тысяч рублей каждому родившемуся после 2022 г. якутянину2), развитие промышленной политики и др. В последующие годы А. Николаев также занимал лидирующие позиции (в 2022 г. – 6 место, в 2023 г. – 4 место). Необходимо отметить его активную деятельность в социальных сетях, по результатам которой в 2021 г. он занял первое место в рейтинге АНО «Диалог» среди губернаторов Дальнего Востока. При этом страницы руководителей регионов в социальных сетях оцениваются центром «Диалог» с 2019 г. по трем блокам критериев: представленность в соцсетях, вовлеченность пользователей и качество контента. В период пандемии в Якутии практиковались ежедневные брифинги по заболеваемости и количеству вакцинированных, на которых выступали глава, заместитель председателя правительства, министр здравоохранения. Такие собрания имели положительное психологическое воздействие на население в период нарастания напряжения во время пандемии.
Последние региональные выборы прошли в сентябре 2023 г., когда жители республики избирали главу Якутии, депутатов законодательного органа власти Ил Тумэн, а также выбирали местные органы власти. Явка на выборах главы субъекта федерации составила 49 %. Победил А. Николаев. По республике он набрал 66 % при явке 45,3 %. Другие кандидаты: от КПРФ – В. Губарев набрал 10,41 %, или 32 750 голосов; от ЛДПР – Г. Парахин 5,69 %, или 17 911 голосов; от партии «Коммунисты России» – И. Борисов 5,20 %, или 16 377 голосо в3.
Укрепление позиций действующего главы республики можно объяснить различными причинами. В период нестабильности происходит консолидация населения вокруг власти. Реализуются крупные экономические проекты в региональной политике на Дальнем Востоке. Также отмечаются положительные результаты мер социальной политики, среди которых поддержка рождаемости, внедрение программ льготной ипотеки (дальневосточная и арктическая), «Дальневосточный гектар». Местное население возлагает большие надежды на строительство Ленского моста. Все это в совокупности обеспечивает стабильность в обществе и обуславливает нежелание граждан менять руководство.
Таким образом, институт глав субъектов Российской Федерации эволюционирует параллельно с развитием федеративных отношений в стране. Централизация 2000-х гг. снизила политический статус губернаторов по причинам реформирования Совета Федерации и изменений в процедуре избрания. Вместе с тем появились различные аспекты ответственности, по которым измеряются индикаторы эффективности. Возвращение практики прямых выборов глав субъектов добавило им легитимности в глазах местного населения. Возникающие вызовы, такие как пандемия, добавляют ответственности губернаторам, что подтверждается передачей им дополнительных полномочий от федерального центра. В Республике Саха (Якутия) действующий глава пользуется поддержкой местного населения, что подтверждается итогами последних региональных выборов.
Список литературы Институт главы субъекта Российской Федерации в контексте федеративных отношений (на примере Республики Саха (Якутия))
- Иванов О.Б., Бухвальд Е.М. Стратегия пространственного развития и основные направления ее актуализации // ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. 2021. № 1. С. 7-23. https://doi.org/10.24412/2071-6435-2021-1-7-23.
- Кузнецова О.В. Региональная политика России: 20 лет реформ и новые возможности. М., 2013. 293 с.
- Кынев А.В. Кто и как управляет регионами России. Система управления и административная устойчивость власти российских регионов. М., 2024. 656 с.
- Панов П.В. «Свои и чужие»: губернаторы-«варяги» в кросс-региональном измерении // Вестник Пермского федерального исследовательского центра. 2022. № 2. С. 86-97. https://doi.org/10.7242/2658-705X/2022.2.9.
- Туровский Р.Ф. Российский квазифедерализм: состояние и перспективы // К новой модели российского федерализма. М., 2013. С. 119-142.
- Фарукшин М.Х. Состояние российского федерализма: взгляд из региона // Политическая наука. 2011. № 4. С. 97-119.
- Elazar D. Exploring Federalism. L., 1987. 335 р.
- Stepan A. Federalism and Democracy: Beyond the U.S. Model // Journal of Democracy. 1999. Vol. 10, iss. 4. P. 19-34. https://doi.org/10.1353/jod.1999.0072.