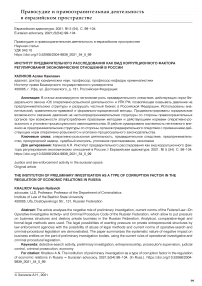Институт предварительного расследования как вид коррупционного фактора регулирования экономических отношений в России
Автор: Халиков Аслям Наилевич
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Правосудие и правоохранительная деятельность в Евразийском пространстве
Статья в выпуске: 5 (54), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется негативная роль предварительного следствия, действующих норм Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и УПК РФ, позволяющая оказывать давление на предпринимательские структуры и разрушать частный бизнес в Российской Федерации. Использованы аналитический, сравнительно-правовой и формально-юридический методы. Продемонстрированы юридические возможности оказания давления на частнопредпринимательские структуры со стороны правоохранительных органов при возможности злоупотребления правовыми методами и действующими нормами оперативно-розыскного и уголовно-процессуального законодательства. В работе суммирована системность негативного влияния на предпринимательские структуры со стороны органов предварительного следствия с применением действующих норм оперативно-розыскного и уголовно-процессуального законодательства.
Оперативно-розыскная деятельность, предварительное следствие, предпринимательство, прокурорский надзор, судебный контроль, уголовное преследование, экономика
Короткий адрес: https://sciup.org/140261861
IDR: 140261861 | DOI: 10.52068/2304-9839_2021_54_5_99
Текст научной статьи Институт предварительного расследования как вид коррупционного фактора регулирования экономических отношений в России
Методы вмешательства, а нередко и регулирования экономики посредством уголовно-правовых норм использовались во все времена. Основой осуществления таких методов является институт предварительного расследования с участием иных правоохранительных органов, а иногда также контрольных и надзорных ведомств. Такое системное начало с документационным оформлением процедуры уголовного преследования бизнеса создает видимость законности действий правоохранительных органов в условиях конструирования многоступенчатости шагов задействованных силовых структур, начиная со стадии доследственной проверки и заканчивая сложной инстанциональностью судебного рассмотрения уголовных дел. В свою очередь, вся долговременная схема предварительного следствия по экономическим преступлениям (а по срокам следствия она практически бесконечна!) создает условия как для коррупционных способов разрешения взаимовыгодных вопросов между должностными лицами правоохранительных органов и бизнесменами, так и для полного уничтожения бизнеса в силу административного заказа или финансирования взятками должностных лиц правоохранительных органов со стороны конкурентов.
В данном аспекте, если право является продолжением политики, то деятельность правоохранительных органов также исходит из стратегических направлений государства по отношению к экономике. А здесь, исходя из опыта исторического развития государств, есть только два принципиальных направления экономической политики – доминирование частной собственности со свободой предпринимательства либо полное преобладание государственной или общей собственности, концентрирующейся в руках основных государственных (или окологосудар-ственных) игроков с соответствующим сужением нормальной коммерческой деятельности. Россия на сегодняшний день в большей степени выбирает второе направление в силу ряда политических причин и исторических традиций, главными из которых являются монархическое сохранение власти действующей элиты, основывающейся на бюджетной экономике.
Когда мы говорим о предварительном расследовании в России как об определенном социальном или государственном институте, то упоминаем, что в структуру данного института, как известно, входят органы предварительного следствия (СК РФ, МВД РФ и ФСБ) и дознания. Кроме этого, обеспечивают оптимальными условиями работы органы расследования также ор- 100
ганы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность (МВД, ФСБ, таможня, ФСИН, СВР, ФСО), предоставляющие информацию и силовую поддержку, без чего (в большей степени – без информации) невозможно эффективно выявлять и раскрывать преступления (особенно если преступлений как таковых нет). Перечисленные органы составляют единство силовой досудебной системы государства, имеющей монополию на насилие и использование карательных методов в работе – вне зависимости от круга их функционирования, а значит, включая и экономическую сферу государства.
Анализируя деятельность органов предварительного расследования в их системном виде, нельзя не отметить и значение суда, который на сегодняшний день только формально является независимой и отдельной ветвью власти. В конечном же итоге именно суды создают максимальные условия для благоприятной деятельности всех силовых структур, в большинстве случаев безропотно принимающих любые результаты деятельности органов расследования. Более того, с целью эффективного регулирования экономических отношений Верховный Суд РФ взял под свою опеку и арбитражные суды, в том числе для выработки единой судебной экономической политики вместе с судами общей юрисдикции, что опосредованно относится и к работе правоохранительных органов, а следовательно, и к исполнительной власти. Иными словами, в настоящее время невозможно анализировать деятельность органов предварительного расследования вне практически безоговорочной их поддержки судебными органами, которые больше озабочены проблемами уголовного наказания подсудимых, чем объективным рассмотрением и законной оценкой материалов уголовных дел.
Регулирование досудебного производства по расследованию экономических преступлений в России построено так, что все решения зависят от воли отдельных должностных лиц правоохранительных органов, а не от механизмов действия правовых актов, включая юридические возможности их судебного обжалования. В первую очередь это больно бьет по предпринимателям, то есть по субъектам, в отношении которых ведется расследование экономических преступлений, поскольку начало расследования любого экономического уголовного дела – это начало разрушения бизнеса. При этом на уровне предварительного расследования как системного института существуют два радикальных приема начала эффективного уничтожения любой предпринима- тельской деятельности: 1) «закрыть» (арестовать) человека, причем сюда мы включаем и домашний арест с множеством запретов предпринимательской деятельности; 2) изъять принадлежащую бизнесмену собственность (обыск, выемка, осмотр, обследование и др.). Но если при аресте предпринимателя необходимо соблюсти определенные формальности (возбудить уголовное дело, найти хоть какие-то доказательства виновности, предъявить обвинение), то для лишения человека собственности можно обойтись более простыми приемами. Соответственно, первым объектом посягательств со стороны следователей и оперативных работников при начале уголовного преследования в отношении предпринимателей является собственность в виде материальных предметов и электронно-бумажной документации, которые можно беспрепятственно изъять с минимальным набором правовых оснований. Иными словами, фактически, как ни удивительно, любую собственность предпринимателей следственные и оперативно-розыскные органы вправе изъять в неограниченном количестве, причем еще до возбуждения уголовного дела, и в большинстве случаев на неопределенные сроки, да и, в общем-то, без какого-либо правового основания.
Самой удивительной нормой в этом отношении является ч. 1 ст. 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», согласно которой при решении задач оперативно-розыскной деятельности органы, уполномоченные ее осуществлять, имеют право проводить гласно и негласно оперативно-розыскные мероприятия, перечисленные в ст. 6, производить при их проведении изъятие документов, предметов, материалов и сообщений. В случае изъятия документов, предметов, материалов при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий должностное лицо, осуществившее изъятие, составляет протокол в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации.
Анализ правовых и фактических условий применения ст. 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» по изъятию предметов и документов показывает множество возможностей практически безосновательного отъема собственности предпринимателей вне какой-либо ответственности:
-
1) секретность заведения дела оперативного учета;
-
2) отсутствие в законе основания для изъятия предметов и документов;
-
3) отсутствие оснований для изъятия в самом постановлении или акте о проведении оперативно-розыскного мероприятия;
-
4) отсутствие судебного или прокурорского разрешения на изъятие предметов и документов;
-
5) неограниченность изъятия количества предметов и документов у предпринимателей;
-
6) отсутствие указания на период, на который изымаются предметы и документы;
-
7) отсутствие указания на возбужденное уголовное дело, материал доследственной проверки или дело оперативного учета при изъятии предметов и документов.
Коррупциогенность указанной нормы и ее несоответствие конституционным требованиям о соблюдении прав и интересов граждан и организаций видна невооруженным глазом, хотя бы только исходя из перечисленных условий ее применения. Но тем удивительнее, что данная норма была принята в пакете федеральных законов о противодействии коррупции в декабре 2008 г., создав благоприятную почву для коррупционных отношений между предпринимателями и правоохранительными органами.
В данном аспекте более понятными, но не значит обоснованными, являются нормы УПК РФ, также позволяющие изымать предметы и документы до возбуждения уголовного дела в порядке ст. 144, то есть при проведении проверки сообщения о преступлении. Во всяком случае, при изъятии в уголовно-процессуальном порядке по ст. 144 УПК РФ требуется обоснование до-следственной проверки, срок хранения изъятых объектов допускается до 30 суток, действует более четкий прокурорский надзор. В то же время сама по себе возможность изъятия любых предметов, а значит чужой собственности, еще до возбуждения уголовного дела, то есть в начале уголовного производства, позволяет говорить о серьезных просчетах в законодательстве по соблюдению прав собственности. Например, только по заявлению другого лица или по рапорту оперативного работника вместе с началом доследственной проверки можно изъять, к примеру, общий сервер в коммерческой организации, содержащий всю информацию, касающуюся деятельности коммерческого предприятия. Эти и иные действия по изъятию собственности серьезно воспрепятствуют дальнейшей производственной или финансово-документальной деятельности организации, не говоря уже о репутационных рисках и возможностях разглашения коммерческой тайны.
Наконец, главным основанием изъятия предметов и документов является возбужденное уго- ловное дело, открывающее широкий путь для полномасштабной войны с тем или иным предпринимателем. При обилии экономических составов преступлений (более 85) возбудить уголовное дело на любого предпринимателя не составляет труда, поскольку, как известно, дела возбуждаются не на основании доказательств совершения преступления или хотя бы причинения ущерба, а лишь на основании признаков преступления или сообщения о преступлении, если задеты государственные интересы, либо при наличии простого заявления любого лица о совершении преступления. Например, практически любой арбитражный спор при его умелой уголовно-правовой интерпретации и наличии заявления от любой из сторон может стать предметом оперативно-розыскной или доследственной проверки с соответствующим, как мы указали, изъятием предметов и документов. Но это будет еще легкая разминка перед тяжеловесными боями, которые начинаются после вынесения постановления о возбуждении уголовного дела.
Переходя к существу расследования уголовного дела по преступлениям экономического характера, следует отметить, с одной стороны, его, как правило, неочевидный характер, поскольку сложные экономические споры не могут быть разрешены сразу после возбуждения уголовного дела. С другой стороны, любое расследование уголовного дела экономического характера разрушает те или иные экономические связи, следовательно, затрагивая весь производственный процесс в определенной сфере экономики. В то же время для следователя возбуждение уголовного дела по экономическому преступлению и его последующее расследование является типичным алгоритмом действий, сходным с любыми другими делами при стандартном наборе следственных и процессуальных действий. Это допросы подозреваемых и обвиняемых, допросы потерпевших и свидетелей, обыски и выемки, экспертизы и специальные исследования, а в случае наличия доказательств – предъявление обвинения и применение меры пресечения. Разумеется, отведенного для этого времени – двух месяцев предварительного следствия – всегда бывает недостаточно, и следствие длится от полугода до года и более, что бывает равно и срокам содержания предпринимателей под стражей или применения иных мер пресечения.
Из всего этого следует, что для органов предварительного следствия нет разницы между расследованием, допустим, общеуголовного преступления и преступления экономической на- 102
правленности. Однако если при общеуголовных преступлениях есть четкое разделение между преступником и потерпевшим, то при расследовании экономических преступлений роли потерпевшего и преступника могут в процессе расследования, пусть даже условно, меняться. Кроме этого, в широкой интерпретации потерпевшим может быть не только лицо, которому, предположительно, причинен ущерб, но и все лица, работающие на том или ином предприятии или в коммерческой организации. Более того, если при совершении обычных преступлений, таких как разбои, кражи или даже убийства, вред уголовноправового характера определяется сразу, то при совершении экономических преступлений вред может устанавливаться в плане гражданского или арбитражного судопроизводства, когда спор может выиграть любая из сторон, причем мы говорим лишь о возможном наступившем вреде. Тем самым речь может идти об искусственно созданной имитации преступления, когда правоохранительные органы переставляют преступника и пострадавшего местами и в течение продолжительного времени в ходе предварительного расследования либо оперативно-розыскной деятельности выясняют, кто есть кто.
Так, уголовное дело по обвинению фермера Г. по ч. 4 ст. 159 УК РФ в Республике Башкортостан было возбуждено на основе заявления руководителя страховой организации, у которой Г. «посмел» просить страховое возмещение за ущерб от засухи через исковое заявление в арбитражный суд. Инициатором доследственной проверки и возбуждения уголовного дела был зять представителя страховой организации, работавший руководителем в органах СК РФ. Уголовное дело два раза рассматривалось судом, и оба раза суд возвращал его на дополнительное расследование, указывая на отсутствие полных данных, доказывающих состав преступления. Расследование и судебное рассмотрение уголовного дела длилось свыше четырех лет, и все это время коллектив фермерского хозяйства Г. постоянно испытывал затруднения из-за вызовов на допросы, финансовых проверок, ревизий и экспертиз, обысков и выемок. При этом в хозяйстве фермера было 700 голов крупнорогатого скота, тысячи гектаров обрабатываемых полей, на которых выращивались особые сорта пшеницы. В конечном итоге органами расследования уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления, однако моральный и материальный ущерб от такого досудебного и судебного производства для фермерского хозяйства вряд ли можно возместить [1].
Еще одной особенностью нынешней работы органов следствия после возбужденного уголовного дела является исключение вмешательства суда и прокурора в процесс расследования. Так, ст. 37 УПК РФ, где указаны полномочия прокурора, не дает права прокурорам вмешиваться в процесс расследования уголовного дела. Верховный Суд РФ также лишил суды возможности осуществлять судебный контроль за органами следствия, поскольку, согласно п. 3.1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 г. № 1 (в редакции от 29 ноября 2016 г.) «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», не подлежат обжалованию в порядке ст. 125 УПК РФ действия (бездействие) и решения, проверка законности и обоснованности которых относится к исключительной компетенции суда, рассматривающего уголовное дело по существу, куда относятся отказ следователя и дознавателя в проведении процессуальных действий по собиранию и проверке доказательств, отказ следователя и дознавателя в возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, постановления следователя, дознавателя о привлечении лица в качестве обвиняемого, о назначении экспертизы и т. п. То есть предварительное следствие является в нашей стране полностью бесконтрольным и безнадзорным, а следовательно ведется практически без участия контролирующих и надзорных ведомств, без судебного контроля и прокурорского надзора.
Если мы перейдем на более высокий уровень анализа уголовно-правовых репрессий со стороны органов предварительного расследования в отношении предпринимателей в России, то с позиций естественно-позитивного права и конституционных основ соблюдения прав человека речь идет о нарушении основополагающих ценностных категорий: свободы, равенства, справедливости и собственности. Невозможно вести бизнес в отсутствие свободы предпринимательства, в отсутствие равенства различных видов собственности и субъектов экономических отношений, а следовательно в отсутствие справедливости и защиты собственности. Негативная роль института предварительного расследования примечательна также тем, что вопросы уголовно-правовых отношений, переходящие в элементарное распределение собственности, решаются до судебного рассмотрения дела, лишь при действующих механизмах досудебного (читай – следственного) производства.
Так, расследование уголовного дела по АО «Башнефть», принадлежавшему в 2005–2015 гг. АФК «Система» под управлением В. Евтушенкова, было немедленно прекращено, когда «Башнефть» оказалась в руках «Роснефти». Причем сам В. Евтушенков успел и побыть обвиняемым, и посидеть под домашним арестом с сентября по декабрь 2014 г. Этого было достаточно, чтобы с помощью решений Арбитражного суда г. Москвы акции «Башнефти» беспрепятственно были национализированы и перешли в руки «Роснефти». До суда, разумеется, такое уголовное дело не дошло, поскольку все вопросы распределения собственности были фактически урегулированы механизмами предварительного следствия СК РФ при активной арбитражной поддержке.
Другой пример – расследование уголовного дела в отношении бывшего первого вице-президента «Роснефти» А. Локтионова, которое следователи полиции Москвы вели 10 лет и прекратили 24 декабря 2020 г. за отсутствием события преступления! Ущерб от расследования уголовного дела, по мнению А. Локтионова, составил 200 млн долларов – от утери векселей, банкротства строительной фирмы и потери акций компании «Нафтаттранс». О заказном характере дела говорили следователи, да и сам факт 10-летнего расследования ясно показывал, что речь шла о тактическом приеме изматывания бизнесмена с целью разрушения его бизнеса и отъема собственности [2]. И таких примеров немало.
В этой связи нередки случаи, когда бизнесмен, находящийся под стражей, передает свои акции, деньги, собственность другим лицам, на которых ему указывают или сами следователи, или представители заинтересованных бизнес-струк-тур, действующих под прикрытием органов следствия. И все эти сделки происходят в «комфортабельных» условиях следственного изолятора или кабинета следователя.
Таким образом, возможность изъятия собственности у предпринимателей еще в процессе оперативно-розыскной работы, а затем в ходе доследственной проверки до возбуждения уголовного дела, легкость возбуждения уголовного дела в отношении любых предпринимателей по заявлениям конкурентов или даже по рапорту оперативного работника, возможности применения мер пресечения вплоть до ареста предпринимателей, полная самостоятельность органов предварительного следствия вне надзора прокуратуры и контроля суда за действиями следователей – все это доказывает, что ведение предпринимательства на территории Россий- ской Федерации является сплошной рискованной зоной.
Можно, конечно, говорить и о положительной роли предварительного следствия, когда оно, например, защищает законные права и интересы бизнесменов, промышленных предприятий и организаций. Более того, российское государство, озабоченное незаконными действиями своих силовых структур, вынуждено вводить определенные ограничения от нападок на предпринимателей: запрет заключения под стражу, санкции прокуроров при даче разрешения на проверки бизнеса надзорными и контрольными органами, усиление борьбы с коррупцией и др. Однако, во-первых, примеров положительной роли органов предварительного следствия, видимо, мало, и мы не можем их привести. Во-вторых, любая защита законопослушных предпринимателей также входит в общие механизмы карательного воздействия органов следствия, когда в сплошном круге расследования оказываются и виновные, и невиновные, в отношении которых применяются одинаковые способы правоохранительной деятельности. Наконец, многие споры предпринимателей могут быть решены без силовых методов предварительного расследования, лишь на основе судебного рассмотрения дел в разумные сроки. Однако для этого нужен другой суд, другие судьи, которые не подчиняются исполнительной власти, а разрешают дела, только исходя из требований закона и справедливости. Да и сами меры, предпринимаемые государством для защиты бизнеса от правоохранительных органов, которые, в свою очередь, входят в систему государства, показывают не только бессилие государства, но и отсутствие системности в законодательном регулировании экономических отношений в России. В данном аспекте уголовно-правовые меры в экономике должны применяться в самых крайних случаях и только на основании особых уголовнопроцессуальных процедур.
Список литературы Институт предварительного расследования как вид коррупционного фактора регулирования экономических отношений в России
- Архив МВД РФ по Республике Башкортостан.
- Коммерсант. 2021. № 2.