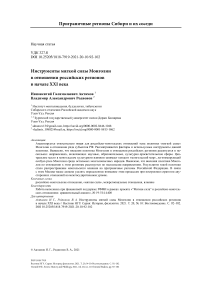Инструменты мягкой силы Монголии в отношении российских регионов в начале XXI века
Автор: Актамов И.Г., Родионов В.А.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Приграничные регионы Сибири и их соседи
Статья в выпуске: 10 т.20, 2021 года.
Бесплатный доступ
Анализируется относительно новая для российско-монгольских отношений тема политики «мягкой силы» Монголии в отношении ряда субъектов РФ. Рассматриваются факторы и используемые инструменты данной политики. Выявлено, что внешняя политика Монголии в отношении российских регионов реализуется в нескольких направлениях, включающих научные, образовательные, культурно-просветительские сферы. Центральное место в монгольском культурном влиянии занимает концепт «монгольский мир», легитимирующий особую роль Монголии среди остальных монголоязычных народов. Выявлено, что внешняя политика Монголии по отношению к этим регионам реализуется по нескольким направлениям. Результатом такой политики стало распространение монгольского влияния на приграничные регионы Российской Федерации. В связи с этим Москва также должна уделять определенное внимание этим процессам при построении стратегии двусторонних отношений на межгосударственном уровне.
Российско-монгольские отношения, "мягкая сила", межрегиональные отношения, влияние
Короткий адрес: https://sciup.org/147235945
IDR: 147235945 | УДК: 327.8 | DOI: 10.25205/1818-7919-2021-20-10-92-102
Текст научной статьи Инструменты мягкой силы Монголии в отношении российских регионов в начале XXI века
Термин «мягкая сила» довольно прочно вошел в современный политический лексикон, а опора на одноименную концепцию стала составной частью внешнеполитического планирования многих стран. Принято считать, что концептуальные основы «мягкой силы» были заложены американским политологом Джозефом Наем-младшим в начале 1990-х гг. в монографии «Bound to Lead: The Changing Nature of American Power» [Nye, 1990], а затем дополнены в последующих трудах [Nye, 2004]. Обобщая видение Наем «мягкой силы», можно определить ее как способность одной стороны оказывать влияние на другую сторону путем убеждения и привлекательности, а не силового давления и принуждения.
Объективной основой для популяризации концепции «мягкой силы» стало усложнение международных отношений, выраженное в усилении конкурентной борьбы и разнообразии способов ее ведения. Наряду с военно-политическими и экономическими методами все большую роль стали играть такие инструменты как идеология, массовая культура, информационное воздействие и прочее. В связи с этим теоретические изыскания Дж. Ная нашли широкий отклик среди академического сообщества и политических элит стран мира. Более того, развитие этой концепции, произошедшее в результате исследований внешнеполитической практики государств, привело к расширению содержания понятия «мягкой силы», добавлению параметров и критериев оценки ее эффективности. Например, английская консалтинговая компания Portland, начиная с 2015 г. ежегодно выпускающая глобальный рейтинг «мягкой силы» The Soft Power 30, среди критериев оценки ее потенциала использует такие параметры, как система управления (политические ценности, общественные институты), технологический прогресс, культурное наследие, уровень развития экономики, вовлеченность в международный контекст, образование [Крячкина, 2019, с. 97].
Изначально акторами «мягкой силы» виделись только те государства, которые традиционно рассматривались как великие державы или по крайней мере претендовали на такой статус. Неслучайно основной массив публикаций на эту тему посвящен таким странам-лидерам западного мира как США, Германия, Франция, Великобритания, а также ведущим странам Азии – КНР, Японии, Индии, Турции. Все активнее в последнее время заявляет о себе в качестве игрока в поле «мягкой силы» Россия. В то же время крайне мало внимания уделяется тем странам, которые в силу своих масштабов, совокупного внешнеполитического потенциала несопоставимы с великими державами. Такие условно «малые страны», как правило, выступают в роли объектов, реципиентов «мягкой силы». Между тем, как показывает практика последних лет, подобные государства также стремятся использовать «мягкую силу» для защиты собственных интересов на международной арене.
«Мягкая сила» Монголии
До недавнего времени Монголия рассматривалась исключительно в качестве объекта «мягкой силы» великих держав [Родионов, 2009, с. 255–260]. Между тем, современная Монголия являет собой пример «малой страны», нацеленной на использование собственного потенциала «мягкой силы» при осуществлении внешней политики. В 2016 г. правительством Монголии была утверждена «Программа по пропаганде Монголии за рубежом», предполагающая широкий спектр мероприятий культурно-просветительского, научного, информационного характера для создания благоприятного имиджа страны в зарубежных странах 1. Монгольские политики и эксперты неоднократно заявляли о необходимости использования «мягкой силы» в отношениях с внешним миром 2. К наиболее ярким проявлениям монгольской «мягкой силы», направленной на глобальный уровень, можно отнести:
-
• активное участие монгольских военных в миротворческих операциях под эгидой ООН;
-
• стремление стать государством-посредником для переговоров по актуальным вопросам безопасности в Северо-Восточной Азии;
-
• позиционирование себя как пример развитой азиатской демократии 3.
Одновременно с этим Улан-Батор стремится использовать «мягкую силу» не только на глобальном, но и на локальном уровне. Речь идет о потенциале влияния на приграничные с Монголией регионы России и Китая. Например, исследователь Института международных отношений Академии наук Монголии Д. Базардорж, рассуждая в одном из интервью о связях
Монголии с монголоязычными этносами Китая и России, отметил: «Как независимое государство, мы должны осознать, что несем историческую ответственность за исследование положения этнических монголов за рубежом» 4. Вполне вероятно, что такого же мнения придерживаются и представители органов государственной власти. В силу данного обстоятельства представляется актуальным исследование факторов, способствующих осуществлению политики «мягкой силы» Монголии в отношении отдельных регионов России.
Российско-монгольские двусторонние связи в новейшее время представляют интерес не только с точки зрения межгосударственного взаимодействия в области политики, экономики, гуманитарной сферы. Не менее значимыми можно признать межрегиональные связи и практики, имеющие тенденцию к расширению. Протяженная совместная граница (3485 км), исторически сложившиеся хозяйственные связи, этнокультурная и религиозная близость народов, выступающая содержательной основой концепта «монгольский мир», являются основными факторами интенсивности межрегионального взаимодействия. Дополнительный импульс регионально-приграничному сотрудничеству придал старт проекта «Экономический коридор Китай – Монголия – Россия» (ЭККМР), объявленный в 2014 г.
Программа ЭККМР, предусматривающая комплексную модернизацию и развитие Центрального транспортного коридора по маршруту Улан-Удэ – Улан-Батор – Пекин – Тяньцзинь (включая железнодорожную ветку и сеть АН 3 Азиатских автодорог), охватывает пять приграничных субъектов России, три из которых являются национальными республиками – Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Бурятия, два административно-краевыми образованиями – Забайкальский и Приморский края. Тем самым трехсторонние экономические коридоры пройдут через регионы компактного проживания монголоязычного народа России – бурят, которые проживают в Забайкальском крае и Республике Бурятия, а также через Республику Тыва – территорию, близкую к Монголии в культурно-религиозном отношении.
Одним из базовых документов, на основе которого выстраивается сотрудничество между Республикой Бурятия и Монголией, является «Соглашение об экономическом и приграничном сотрудничестве» от 25 февраля 1999 года. Между Бурятией, Тывой, Забайкальским краем с одной стороны и рядом аймаков Монголии с другой стороны действуют соответствующие соглашения о сотрудничестве. Также значимые рамки взаимодействия – связи между городами-побратимами – российским Улан-Удэ и монгольскими Улан-Батором, Эрдэнэтом и Дарханом; российской Читой и монгольским Чойбалсаном. Такие мероприятия экономического и культурного характера как «Дни экономики и культуры», бизнес-выставки, ярмарки высших учебных заведений, организация детского отдыха на территории российских субъектов и монгольских аймаков играют роль площадок для поддержания постоянных контактов между жителями двух стран.
На субъекты, входящие в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа, в последние годы приходится около трети всего товарооборота между Россией и Монголией [Суходолов, Даваасурэн, Манжигеев, 2018, с. 632–639]. Вступивший в силу с ноября 2014 г. обоюдный безвизовый режим между странами стимулировал резкое увеличение пассажиропотоков и миграционных перемещений в обоих направлениях. Нарастающий спрос на товары и продукты, производимые на приграничных территориях, дал новый импульс сфере туризма. Ниже приведены данные по взаимным туристическим визитам между Россией, Китаем и Монголией в последние годы (табл. 1, 2).
Таблица 1
Число выездных туристских поездок граждан России в Китай и Монголию, 2015–2019 гг. (тыс.)
The number of arrivals of Russian tourists to China and Mongolia, 2015–2019 (thousand)
Table 1
|
Страна |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Китай |
1284,3 |
1676,2 |
2003,0 |
2018,0 |
2334,0 |
|
Монголия |
57,2 |
71,9 |
91,0 |
111,0 |
130 |
Таблица 2
Число въездных туристских поездок китайских и монгольских граждан в Россию, 2015–2019 гг. (тыс.)
The number of arrivals of Chinese and Mongolian tourists to Russia, 2015–2019 (thousand)
Table 2
|
Страна |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Китай |
1121,5 |
1288,7 |
1478,0 |
1690,0 |
1883,0 |
|
Монголия |
378,2 |
522,0 |
396, 0 |
387,0 |
376,0 |
Источник : Выборочная статистическая информация, рассчитанная в соответствии с официальной статистической методологией оценки числа въездных и выездных туристских поездок. Сайт Федерального агентства по туризму Минэкономразвития РФ // https://www.russiatourism.ru (дата обращения 15.05.2020).
Из данных таблиц видно, что с 2015 г. количество монгольских граждан, посетивших Россию, в несколько раз превысило количество россиян, посетивших Монголию. Такая разница объясняется резким снижением курса российского рубля по отношению к монгольскому тугрику в 2014 г., что в значительной мере увеличило спрос на российские товары среди монгольских покупателей. Это, в свою очередь, оживило оптово-розничную торговлю в приграничных российских регионах, в первую очередь, в Республике Бурятия. Объемы продаж ритейлеров резко возросли, что сказалось на увеличении ВРП республики. Так, по данным официальной статистики, по итогам первой половины 2015 г. Бурятия заняла первое место в России по росту оборота розничной торговли с показателем 105,8 % 5, в то время как в большинстве субъектов РФ эти показатели снизились на фоне экономического кризиса.
Инструменты «мягкой силы»
Поскольку покупатели из Монголии в массе своей не очень хорошо знают русский язык, то продавцам не только крупных торговых центров, гостиниц, кафе, но и представителям среднего и малого бизнеса пришлось искать механизмы оптимальной коммуникации. Рыночный спрос со стороны покупателей-монголов подтолкнул к изменению модели коммуникации со стороны продавцов-россиян. Продавцы были вынуждены овладеть основными фразами, торговой лексикой для реализации своей продукции. В этих условиях в более выигрышной ситуации оказались продавцы, которые владели бурятским языком, который генетически является одним из монгольских языков. Экономические дивиденды от знания языка оказались самым явным преимуществом и подтолкнули многих представителей данной сферы к овладению бурятским языком, пусть даже и на самом начальном уровне. Показателен пример с торговцами фруктами и овощами на одном из оптово-розничных рынков Улан-Удэ. Как правило, эта сфера занята выходцами из государств Средней Азии и Кавказа. После притока покупателей из Монголии торговцы из этих стран очень быстро и на довольно хорошем уровне выучили торговую лексику на монгольском. Многие буряты, не знавшие свой язык, вынуждены были выдерживать конкуренцию и начать изучение языка. Особенно это было заметно среди продавцов зимней обуви – унтов из оленьих шкур, которые имели большой спрос у монголов в силу их практичности, морозостойкости и относительно невысокой стоимости. Эту нишу преимущественно заняли торговцы-буряты, и те, кто знал бурятский язык, оказались в более выгодном положении в плане коммуникации с покупателями из соседней страны. Экономическая потребность в знании азов монгольского языка стала одним из факторов повышения интереса к истории и культуре монгольского народа.
Важным мотивом для поездок в Бурятию граждан Монголии стало посещение религиозных мест. Наиболее ярким примером в этом плане является поклонение нетленному телу Хамбо-ламы Итигэлова в центре российского буддизма – Иволгинском дацане. Монгольские туристские компании организуют для паломников специальные автобусные туры, которые пользуются большой популярностью. Традиционная одежда, которую монголы надевают при посещении дацана, оказывает определенное воздействие на представителей бурятского этноса, которые практически перестали носить ее в быту. В результате у бурят ношение традиционной национальной одежды, в том числе одежды халха-монголов, стало весьма популярным. Более того, ношение традиционного монгольского костюма стало модным и среди представителей других национальностей. Таким образом, ежедневные экономические интеракции монгольских туристов и жителей российских приграничных регионов стали одним из каналов популяризации всего монгольского.
Наряду с экономическими связями можно отметить активизацию сотрудничества в научной сфере. На гранты Российского фонда фундаментальных исследований организуются совместные российско-монгольские конкурсы по техническим, естественнонаучным и гуманитарным направлениям. Российские ученые совместно с монгольскими коллегами составляют программу исследований, календарный план, предполагаемые результаты проекта. Промежуточные итоги апробируются на конференциях различного уровня, а итоговый отчет находит свое отражение в виде коллективных монографий и сборников, которые порой могут представлять интерес не только для научной общественности. Наряду с традиционными центрами отечественного монголоведения (Москва и Санкт-Петербург) активную роль в совместных исследованиях в последние годы играют Улан-Удэ, Кызыл, Иркутск, Элиста.
Особое отношение как руководства Монголии, так и ее рядовых граждан к некоторым приграничным субъектам РФ обусловлено языковой, культурно-исторической и религиозной близостью. Все это в совокупности стало содержанием для идейного концепта «монгольский мир». Суть этого концепта сводится к тому, что, несмотря на государственные границы, между монголами, бурятами, тувинцами и даже проживающими за тысячи километров от Монголии калмыками существуют тесные, хоть и незримые связи 6.
Примерами международных мероприятий, в основе своей носящих этнокультурный характер и призванных укрепить связи между различными частями «монгольского мира», служат Всебурятский международный фестиваль «Алтаргана» (проводится в порядке очереди в разных регионах России – Бурятии, Иркутской области, Забайкальском крае и в Монголии), Конвент монголов мира, Баргутский фестиваль «Баргажан», международный песенный конкурс «Белый месяц», Международный конкурс этномоды «Торгон зам», Международный фестиваль «Хамаг Монгол – Вся Монголия» 7 и др. В программах этих мероприятий представлены самобытные традиции и современные направления развития обычаев, языка и культуры монголоязычных народов.
В 2015 г. был проведен Фестиваль студенческой молодежи монголоязычных народов Китая, Монголии и России. Основным организатором выступил Педагогический университет автономного района Внутренняя Монголия КНР. Творческие студенческие коллективы Бурятского госуниверситета (Россия), Монгольского государственного университета образования (Монголия), Педагогического университета АРВМ (Китай) выступали с концертными программами в городах Улан-Удэ, Улан-Батор, Эрлянь, Хух-Хото. Основной акцент в содержании художественных номеров был поставлен на демонстрации особенностей традиционной культуры монгольских народов в разных социокультурных условиях развития.
Помимо культурных площадок монгольская общность выступает как объект совместных научных исследований. К примеру, в 2006 г. были начаты научные проекты по исследованию особенностей развития детей монголоязычных народов, проживающих в Китае, России, Монголии. Проект был реализован тремя вузами – Педагогическим университетом Внутренней Монголии (КНР), Монгольским государственным университетом образования (Монголия) и Бурятским государственным университетом (РФ). Результаты исследования были отражены в монографии монгольских и российских ученых.
Отдельным направлением сотрудничества Монголии и российских регионов является возросший интерес к изучению классической монгольской письменности, или, в другом варианте – старомонгольской письменности. Активно организуются мастер-классы по монгольской каллиграфии, проводятся различные выставки и фестивали. Более того, образовательные центры включают в перечень иностранных языков классическую монгольскую письменность. Широкое распространение получило данное направление в информационной среде – создаются онлайн-платформы, в том числе всероссийского уровня 8. Развитие классической монгольской письменности дало стимул развитию монгольской каллиграфии, причем не только в Бурятии, но и в Забайкальском крае 9 и Иркутской области. Под эгидой Правительства Монголии ежегодно проводятся летние школы по изучению монгольского языка. Первая часть, как правило, проходит в Улан-Баторе, а вторая проводится в традиционных условиях монгольской степи, в течение нескольких дней молодежь из разных стран живет в юртах, знакомится с бытом, культурой, традициями монгольского народа. Специфика данных школ заключается в том, что организаторы показывают разную Монголию – динамично развивающуюся столицу с шумом мегаполиса и атрибутами последних достижений цивилизации и консервативную, размеренную степную жизнь простых кочевников, уклад которых принципиально не изменился со времен средневековья. Молодежь после таких школ обретает новый научный опыт, повышает языковую компетентность, обретает коллег-единомышленников среди представителей как самой Монголии, так и других стран мира, создается круг друзей, увлеченных всем монгольским. Но самый главный результат этих школ – это формирование устойчивого позитивного отношения у участников к монгольской культуре, людям, стране и последующая трансляция такого отношения в обществе.
В то же время внутри «монгольского мира» можно увидеть некоторую иерархию его составных частей. Так, Монголия активно позиционируется в качестве центра притяжения для всех остальных народов «монгольского мира», оказавшихся на его «периферии», т. е. живущих вне монгольского государства. Аргументами в пользу данного положения вещей, как правило, являются сохранение в Монголии частью ее населения кочевого уклада, приверженность культурно-бытовым традициям (в одежде, пище, правилах поведения), доминирование монгольского языка. Подобный подход имеет заметный отклик в среде монголоязычных народов России и Китая, перед которыми стоят актуальные задачи сохранения своей языковой и, шире, этнокультурной самобытности.
Пожалуй, самым главным маркером, подчеркивающим центральное положение Монголии в рамках «монгольского мира», является фигура Чингисхана. В современной Монголии сложился нарратив, призванный провести прямую связь между великим ханом-основателем империи и современной монгольской государственностью. Изображения или имя Чингисхана можно увидеть на государственных символах, национальной валюте, названиях центральных улиц и площадей, популярных товарах и местах массового отдыха. Попытки даже частичной «приватизации» Чингисхана другими этносами или государствами встречают яростное сопротивление и критику со стороны общественности Монголии.
В 2011 г. президент Монголии Ц. Элбэгдорж в своем выступлении на торжественной сессии Парламента по случаю 100-летия со дня провозглашения независимости страны вывел концепт «монгольский мир» на уровень большой международной политики. Глава государства обратился к монголам всего мира (в том числе имелись в виду российские буряты и калмыки) приезжать в Монголию на постоянное место жительства с целью участия в созидательной деятельности 10. Эта попытка реализации репатриационной политики была призвана в очередной раз продемонстрировать, что Монголия является центром, ядром «монгольского мира», на который должны ориентироваться остальные сообщества. В целом такая символическая конфигурация автоматически делает Монголию субъектом, активным игроком в поле «мягкой силы» по отношению к приграничным регионам РФ.
Одним из показателей эффективности «мягкой силы» Монголии в российских приграничных регионах является преобладающий положительный образ страны, транслируемый через местные масс-медиа. Проведенное в 2019 г. исследование образа Монголии в региональных СМИ (Бурятии и Иркутской области) показало, что большинство материалов о ней носят позитивный характер. Львиная доля информации посвящена самобытной монгольской культуре, спортивным достижениям монголов и привлекательности туристических поездок в эту страну [Комбаев, Доржиева, Цыремпилова, 2020, с. 142–147].
Ситуация, связанная с пандемией коронавируса в 2020 г., внесла серьезные коррективы в повседневную жизнь граждан обеих стран, обернулась значительным ущербом для экономики и социального сектора. Начиная с весны 2020 г. были сведены к минимуму взаимные поездки российских и монгольских граждан, резко сократились деловая активность и научно-образовательные контакты. Между тем даже в такой непростой обстановке Монголия сумела весьма эффективно укрепить позитивный образ в глазах ближайших соседей. Речь идет о действиях монгольских властей по борьбе с распространением вируса и полученных результатах. Еще в январе 2020 г., когда проблема не приобрела характер пандемии, монгольское руководство приняло решение закрыть границу с Китаем, перевело образовательные учреждения страны на дистанционный формат работы, отменило все массовые мероприятия, включая празднование Цагаан сар (Новый год по лунному календарю). Как результат, по количеству заболевших коронавирусом в 2020 г. Монголия занимала одно из последних мест в мире. Так, по состоянию на 14 ноября 2020 г. ситуация выглядела следующим образом: заболевших – 416 человек, вылечившихся – 328, находящихся на лечении – 88 11. До середины ноября 2020 г. в стране не было зафиксировано ни одной смерти от коронавируса и ни одного случая внутреннего заражения, все заболевшие были приехавшими из-за рубежа монгольскими гражданами или иностранцами. Успех Монголии был отмечен главой Всемирной организации здравоохранения, который похвалил монголов за высокий уровень организации в борьбе с вирусом 12. Подобные цифры на тот момент времени выглядели особенно впечатляюще на фоне сложной ситуации с количеством заболевших коронавирусом в соседних с Монголией российских регионах. Четырнадцатого ноября 2020 г. количество заболевших в Бурятии составляло 14603 чел., в Тыве – 10789, в Забайкальском крае – 14961, в Иркутской области – 27814 13. Необходимо отметить, что в течение 2021 г. ситуация с заболеванием в Монголии значительно ухудшилась, выразившись в росте числа заболевших и появлении летальных исходов 14.
Помимо эффективной борьбы с пандемией Монголия проявила активность, помогая ближайшим соседям. Президент Монголии Х. Баттулга во время своего официального визита в Китай в самом начале пандемии передал Председателю КНР Си Цзиньпину сертификат на 30 тысяч баранов. Эта акция получила положительный отклик в том числе в публикациях российских СМИ 15. Кроме того, была организована акция по сбору средств для помощи Китаю в борьбе с COVID-19. Монгольские выпускники китайских вузов, ассоциации выпускников занялись сбором средств и организовали флешмоб в социальной сети «Фэйсбук» под лозунгом «Ухань, держись!» ( 武汉加油! ) 16.
Активную помощь в борьбе с коронавирусом Монголия оказала и российским регионам. Например, в июне 2020 г. Генеральный консул Монголии в Кызыле передал тувинским медикам гуманитарную помощь в рамках поддержки в борьбе с коронавирусом. Акция получила название «Помощь вечному соседу». В ней приняли участие 275 монгольских предпринимателей, 60 коллективов госучреждений и компаний, которые в сумме собрали 35,8 млн тугриков (примерно 970 тысяч рублей). На часть средств были закуплены средства индивидуальной защиты, в том числе монгольского производства 17. Аналогичную гуманитарную помощь получили и другие российские регионы. Селенгинский аймак Монголии передал Бурятии 5 тыс. медицинских масок в качестве гуманитарной помощи. Маски, а также пожелания здоровья и победы над коронавирусом передал генконсул Монголии в Улан-Удэ Дамдин Чадраабал от имени губернатора Шархуугийна Оргила. Господин Оргил в письме отметил, что Селенгинский аймак уже много лет сотрудничает с Бурятией 18. Свою лепту внесли монгольские выпускники советских и российских вузов. Инициаторами благотворительной акции стали Союз монгольских обществ дружбы и Монгольская ассоциация выпускников советских и российских учебных заведений (МАВСУЗ). Акцию поддержали и Монгольская ассоциация преподавателей русского языка и литературы. В ходе акции выпускники и преподаватели русского языка пожертвовали 5,37 млн тугриков (примерно 155 тысяч рублей) в знак благодарности Бурятии за помощь, оказанную в ходе прибытия на родину монгольских студентов из России 19.
Заключение
Три постсоциалистических десятилетия российско-монгольских отношений дали весьма богатый материал для того, чтобы увидеть серьезные изменения в характере взаимодействий. Монголия, долгие годы являвшаяся преимущественно объектом политики своего более могущественного северного соседа, постепенно приобрела характеристики субъекта, готового более активно отстаивать свои национальные интересы. Как и большинство стран мира, Монголия применяет «мягкую силу» в своей внешней политике. Но если в масштабе всей России влияние Монголии мало ощутимо в силу объективных обстоятельств, то на уровне отдельных российских регионов оно вполне заметно. Установление и развитие связей с приграничными субъектами РФ предоставляет Улан-Батору возможность для увеличения своей субъектности в отношениях с Москвой.
Намеченная главами России, Монголии и Китая программа по формированию международных экономических коридоров в случае ее успешной реализации значительно усилит экономические связи в регионе. Уже сейчас можно констатировать, что сама идея осуществления подобной программы способствовала увеличению взаимных контактов и расширению гуманитарного сотрудничества между странами. В свою очередь, интенсификация торгово-экономических связей между российскими регионами и Монголией помимо прямых результатов, выраженных в данных официальной статистики, привела к изменениям в представлениях населения приграничных регионов о своем соседе. Это, в свою очередь, стало определенным ресурсом влияния монгольской стороны посредством продвижения «мягкой силы» в российских регионах.
Важнейшим фактором продвижения монгольской «мягкой силы» выступает этнокультурная и религиозная близость народов, населяющих приграничные субъекты РФ и объединяемые концептом «монгольский мир». Опираясь на ресурс национального государства, Улан-Батор активно позиционирует Монголию в качестве места притяжения для всех монголов мира, примера для подражания в политическом, экономическом, культурном плане. Существующий запрос на сохранение и развитие национальных культур и языков народов России создает условия для стимулирования интереса ко всему монгольскому – языку, литературе, одежде, кухне, культурным и спортивным мероприятиям. Тем самым Монголия наращивает свое культурное влияние в ряде субъектов РФ (Бурятия, Тыва, Забайкальский край, Калмыкия), используя его как инструмент «мягкой силы».
Список литературы Инструменты мягкой силы Монголии в отношении российских регионов в начале XXI века
- Комбаев А. В., Доржиева И. Ц., Цыремпилова Э. В. Образы Монголии в региональных СМИ приграничных территорий России как отражением "мягкой силы" Монголии (по материалам региональных печатных СМИ Иркутской области и Республики Бурятия) // Власть. 2020. Т. 28. № 3. С. 142-147.
- Крячкина Ю. А. "Мягкая сила" во внешней политике Японии: ключевые особенности // Проблемы национальной стратегии. 2019. № 6 (57). С. 95-107.
- Родионов В. А. "Мягкая сила" в современных российско-монгольских отношениях // Вестн. Бурят. гос. ун-та. 2009. № 8. С. 255-260.
- Суходолов Я. А., Даваасурэн А., Манжигеев А. Ф. Современная специфика и перспективы развития внешнеторгового сотрудничества России с Монголией // Изв. Байкал. гос. унта. 2018. Т. 28. № 4. С. 632-639.
- Nye J. S. Bound to Lead: The Changing Nature of American Power. N.Y.: Basic Books, 1990. 292 p.
- Nye J. S. Soft Power: The Means to Success in World Politics. N.Y.: Public Affairs Group, 2004. 192 p.