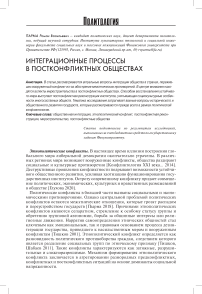Интеграционные процессы в постконфликтных обществах
Автор: Парма Р.В.
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Обустройство России: вызовы и риски
Статья в выпуске: 5, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются актуальные вопросы интеграции общества в странах, переживших вооруженный конфликт из-за обострения межэтнических противоречий. В центре внимания находятся аспекты миростроительства в постконфликтных обществах. Способом восстановления устойчивого мира выступает постконфликтная реконструкция институтов, учитывающая социокультурные особенности многосоставных обществ. Тематика исследования затрагивает важные вопросы исторического и общественного развития государств, которые рассматриваются прежде всего в рамках политической конфликтологии.
Общественная интеграция, этнополитический конфликт, постконфликтная реконструкция, миростроительство, постконфликтные общества
Короткий адрес: https://sciup.org/170201739
IDR: 170201739 | DOI: 10.31171/vlast.v31i5.9810
Текст научной статьи Интеграционные процессы в постконфликтных обществах
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситету.
Этнополитические конфликты. В настоящее время иллюзии построения глобального мира либеральной демократии окончательно утрачены. В различных регионах мира возникают вооруженные конфликты, общества раздирают социальные и культурные противоречия [Конфликтология XXI века… 2014]. Деструктивные проявления конфликтности подрывают возможности устойчивого общественного развития, усиливая хаотизацию функционирования государственных институтов. Остроту современному конфликту придает совмещение политических, экономических, культурных и нравственных размежеваний в обществе [Глухова 2020].
Политические конфликты в большей части вызваны социальными и экономическими противоречиями. Однако центральной проблемой политических конфликтов остаются межэтнические отношения, которые грозят распадом и переустройством государств [Пырма 2018]. Причинами этнополитических конфликтов являются сепаратизм, стремление к особому статусу группы и обретению групповой автономии, борьба за общинные интересы или религиозные движения. Нарратив самоопределения этнических общностей стал ключевым как эмоциональным, так и правовым основанием процесса дезинтеграции государства, приведшего к насильственным мерам и вооруженным конфликтам [Тишков 2001]. Этнополитический конфликт определяется как разновидность политического противоборства граждан, следствием которого является разделение социальных групп по этническому признаку [Тишков, Шабаев 2011]. Такие конфликты характеризуются как затяжные, разрушительные и сложноразрешимые. Механизм формирования этнополитического конфликта заключается в агрегировании разнородных предконфликтных, конфликтных и постконфликтных ситуаций на основе доминанты социальной напряженности.
Применительно к российским условиям формирования межэтнических отношений исследователи выделяют разнонаправленные тенденции глобализации и модернизации, многие из которых являются весьма противоречивыми. С одной стороны, происходит усиленная и ускоренная информатизация и модернизация общества посредством внедрения единых информационных и коммуникативных систем, порождающих собственные социальноэкономические трансформации. С другой стороны, усиливается феномен глокализации, выражающийся в преимущественном развитии внутри границ отдельных регионов и с учетом преобладающих региональных различий [Дробижева 2008].
Исследователи считают, что этнополитические конфликты возникают из-за столкновения интересов национальных элит, которые в условиях слабости государства преобразуются в конфликт идентичностей. Культурная идентичность становится «идеологической формулой» разобщенных участников этнического конфликта, наполненной групповыми эмоциями, ценностями и смыслами [Rothman, Alberstein 2013]. Риски взаимодействия этнических и политических факторов развития общества приводят к «этнизации политики и политизации этничности». Если конфликт интересов, связанный с достижением практических и материальных целей, в большей степени рационален, то конфликт идентичностей, несущий эмоциональный заряд, преимущественно иррационален. Этнополитический конфликт потенциально может развиваться в направлениях рационализации в процессе политической институционализации или иррационализации – при доминировании этнической идентичности. Трансформация этнополитического конфликта из конфликта интересов в конфликт идентичностей приводит расширению социальной базы, эскалации напряженности в межэтнических отношениях, усложнению его разрешения [Авксентьев, Аксюмов, Гриценко 2020].
Постконфликтное миростроительство. Политическая деятельность противостоящих сторон по налаживанию мира охватывает постконфликтную стадию [Лебедева 1999]. В политическую риторику на международном уровне вошло понятие «постконфликтное миростроительство». Данное понятие было определено в 1992 г. в докладе Генерального секретаря ООН Б. Бутрос-Гали «Повестка мира» как действия по обнаружению и поддержке институтов, способствующих укреплению мира и преодолению возможных рецидивов вооруженных конфликтов. Рекомендуемые меры миротворческих операций ООН в большей части были связаны с проведением демобилизации военных формирований и переходом к демократическому устройству политической системы [Boutros-Gali 1992].
С течением времени постконфликтное урегулирование приобрело на международной арене широкие рамки миротворческих действий. В 1997 г. Генеральный секретарь ООН К. Аннан обозначал постконфликтное миростроительство как различные скоординированные действия по окончанию конфликта, направленные на консолидацию сил мирного развития и предотвращение проявлений конфронтации [Annan 1997]. Постконфликтное миростроительство следует прежде всего политическим задачам сведения к минимуму рисков рецидива столкновений сил, примирения сторон, реконструкции отношений, консолидации общества и восстановления хозяйства на пути к цели построения устойчивого мира [Miall, Rambsbotham, Woodhouse 2011].
Декларация в области устойчивого развития на период до 2030 года, принятая Генеральной Ассамблеей ООН в сентябре 2015 г., провозглашает своей конечной целью глобальное преобразование по формуле: «не может быть устойчи- вого развития без мира и мира без устойчивого развития»1. Построение «мира во всем мире» входит в перечень из 17 целей устойчивого развития ООН, отводя важное значение выходу стран из конфликтного состояния. После завершения вооруженных конфликтов ключевой задачей национальных лидеров становится сочетание мер по обеспечению политической стабильности с задачами по управлению их странами путем оказания воздействия на мировоззрение и поведение оппонентов с их сторонниками среди населения.
Бывший специальным представителем Генерального секретаря ООН, председателем Совета Хиросимского центра миростроителей С. Хасегава отмечает пять отличительных признаков позитивного управления в постконфликтных обществах с опорой на общечеловеческие ценности. Первый признак состоит в приверженности руководителей стран национальным интересам, идентичности и единству, т.к. основными причинами вооруженных столкновений является личное соперничество и неприязнь. Национальные лидеры должны ставить национальные интересы и единство выше своих личных амбиций. Второй признак заключается в их способности обеспечивать интеграцию универсальных идеалов и принципов управления с ценностями и обычаями местных общин. Третий признак связан с должным стилем руководства, для которого характерны мужество и милосердие, а также способность разъяснять последователям эффективность комплексных подходов и увязывать в сознании населения универсальные идеалы с местными этическими нормами. Четвертым отличительным признаком является умение находить баланс между необходимостью принимать меры устранения ранее допущенных несправедливостей и совершенных преступлений с ценностью представлений и усилий, устремленных в будущее. Пятым наиболее важным признаком является способность трансформировать мировоззрение и менталитет граждан для достижения устойчивого мира и развития [Хасегава].
Постконфликтное миростроительство становится возможным, когда достигнутое соглашение между противоборствующими сторонами переходит в состояние политического урегулирования конфликта. Реализация интересов сторон видится в отказе от вооруженных столкновений и включении в мирный процесс; должна произойти «трансформация политики войны в политику мира» [Hampson 1996]. В исследованиях конфликтов меры по консолидации общества для достижения устойчивого мира обозначаются как комплексные действия, восполняющие три взаимосвязанных дефицита общественного развития: 1) политический дефицит, связанный со слабостью институтов и их неспособностью управлять взаимодействием субъектов политики; 2) экономический дефицит, выраженный в деградации экономического потенциала; 3) социально-психологический дефицит, состоящий в упадке социальных структур и травмированном состоянии общества. Миростроительные действия на постконфликтной стадии призваны восполнить структурные дефициты посредством общественной реконструкции и реабилитации [Аклаев 2005]. Постконфликтная реабилитация направлена на социально-психологическое примирение сторон и налаживание общественных отношений на основе принципа справедливости для достижения устойчивого мира. Постконфликтная реконструкция предполагает изменение политических, социальных и экономических институтов, которые должны образовать справедливое общество, устранив п ричины конфликтной ситуации.
Предотвращение повторения кризисов в постконфликтных обществах остается важной задачей международной политики. Эскалация насилия преследует многие страны, пережившие гражданскую войну. Неблагоприятные фоновые условия, часто созданные предыдущим конфликтом, усугубляют проблему и способствуют возникновению конфликтной ловушки. Во-первых, риск повторения усиливается тем, что почти все постконфликтные общества борются с неблагоприятными фоновыми условиями, которые, как известно, повышают вероятность возобновления политического насилия, такого как конфликт по соседству. Во-вторых, постконфликтные общества, которые получают значительно большую международную поддержку, испытывают меньше повторений гражданской войны. В-третьих, поддержка трансформации конфликтов на уровне общества и преодоление прошлого опыта насилия имеют первостепенное значение для установления прочного мира. Существенная международная поддержка миростроительства после гражданской войны может помочь снизить риск ее повторения. Международная поддержка миростроительства включает четыре проблемных области: социально-экономические основы; безопасность; политику и управление; трансформацию социальных конфликтов [Fiedler, Mroß 2017].
Вероятность достижения устойчивого развития в пострадавших от конфликтов странах повышает целенаправленное миростроительство. Показатели миростроительства сгруппированы в четыре компонента, соответствующих ключевым областям интеграции общества: социальную сплоченность, свободу действий, переговорные способности и компенсации [Lohr et al. 2022]. В отдельных исследованиях компоненты миростроительства объединяются в оценку воздействия на устойчивость уязвимых регионов, переживающих вооруженный конфликт. Основной стратегией постконфликтного миростроительства в условиях этнического и религиозного разнообразия в многосоставных обществах стал социокультурный подход. Слабость межэтнических отношений вскоре улучшается в период после установления мира благодаря восстановлению социальных и культурных факторов для укрепления социальной сплоченности путем привлечения различных заинтересованных сторон к установлению мирной жизни [Hartoyo et al. 2020].
Постконфликтная реконструкция. Затухание конфликта вызывает необходимость восстановления государственных институтов, экономической социальной инфраструктуры и социальной помощи. Восстановление управления зависит от заполнения трех взаимосвязанных пробелов, которые возникают в несостоявшихся государствах: дефицита легитимности, эффективности и безопасности [Governance in Post-Conflict… 2007]. Ключевая задача состоит в том, чтобы создать транспарентные, эффективные и основанные на участии структуры управления, которые могут стабилизировать трансформацию постконфликтного общества [Gaghman 2020]. Для обеспечения долгосрочного миростроительства в постконфликтных обществах необходимо, чтобы молодежь была включена в активное гражданское участие в общественных инициативах и поддержку программ переходного периода [Mohammed 2021].
Постконфликтную стадию определяют в привязке к снижению масштаба военных действий, что позволяет приступить к реинтеграции территорий. Под определение подпадают ситуации от тлеющего конфликта до его полного разрешения. В период после заключения мирного соглашения политические силы должны соблюдать достигнутые договоренности [Forman, Patrick, Salomons 2000]. На этапе постконфликтной интеграции происходит политический торг, состоящий в обмене военного насилия на ресурсы развития.
Прекращение войны и достижение мира обменивается на особые «товары», открывающие институциональные возможности и доступ к экономическим ресурсам [Gurr 2000].
Институциональные устройства по управлению будущими отношениями можно варьировать между формулами, основанными на принципах интеграции, сепарации и доминирования (контроля). Континуум интеграции состоит как из консенсусных институтов участия во власти, что вынуждает стороны сотрудничать друг с другом на основе общих правил игры, так и интегративных институтов, преодолевающих этническое разделение и объединяющих этносы в рамках общей политической идентичности. Контуры сепарации также могут быть весьма широкими – от полной сепарации и даже особого статуса территориальной автономии до форм консоциации. В действительности ни один из этих трех принципов (интеграция, сепарация или доминирование) не присутствует в чистом виде. Политическое искусство акторов, ищущих мирные решения, заключается как раз в разработке формулы из этих принципов, которая в большей степени отвечает особенностям той или иной конкретной ситуации [Zartman 1995].
Интеграция, наряду с ассимиляцией, мультикультурализмом, автономией, переговорами, специальными законами и вооруженной силой, относится к политическому арсеналу государства для решения проблем межэтнических отношений. Гражданская интеграция, осуществляемая в результате целенаправленных усилий элиты и власти, выступает главным противовесом этнокультурному центризму. Подобная интеграция ведет к формированию общенациональной культуры с ее собственным восприятием существующих ценностей и символов [Этническое и религиозное… 2018: 5-10]. Интегрирующую функцию общества выполняют новые явления и события, позволяющие совмещать идентичность этническую, региональную и иные идентичности [Дробижева 2020].
Интеграция также трактуется как способ урегулирования этнополитических конфликтов. Интеграция ориентирована на деполитизацию конфликтов, а не на нивелирование этнических различий. Метод интеграции основывается на стремлении государства объединить этнические группы в единое политическое сообщество. Объединение происходит на политической основе общей национальной или гражданской идентичности при сохранении некоторых культурных различий этнических групп [Аклаев 2005]. Интеграция создает благоприятные условия для выстраивания отношений государства с индивидами, а не с этническими и культурными группами. При этом принадлежность индивидов к этим группам не сказывается на объеме политических свобод, гражданских прав и обязанностей. Государственная политика интеграции приводит сглаживанию и уравниванию межэтнических различий, обеспечивая национальное единство.
В современной России социокультурная интеграция характеризуется увеличением межэтнических контактов, что способствует размыванию культурных границ. В полиэтнических регионах стабильность и безопасность зависят от социальной солидарности и гражданской интеграции. Социокультурная интеграция рассматривается как процесс ценностной консолидации общества, посредством которого формируется гражданское самосознание и надэтническая идентичность. Конфликт идентичностей провоцируется существующим противоречием между системной модернизацией и социальной дезинтеграцией. Социокультурная интеграция выступает в качестве инструмента проактивного воздействия на конфликтную среду путем структурных трансформаций и рационализации этнических противоречий [Попов 2016].
Концепция социокультурной интеграции вошла в число основных в рамках теории конфликта, определяя способы и механизмы урегулирования отношений в обществе. Этносоциальные субъекты интегрируются, как избегая деструктивных конфликтов и нарушения целостности системы, так и содействуя культурному диалогу, этническому консенсусу, гражданской солидарности. Стратегия интеграции должна строиться не на ассимиляционной политике и подавлении этнических различий, но на принципах политического участия, ценностной консолидации, социальной инклюзии, равенства возможностей, кросс-культурного взаимодействия и гражданской солидарности. Развитие территорий после окончания вооруженных конфликтов показывает недопустимость ориентации на изоляционизм и автаркию этнических систем в рамках единого политического пространства [Попов 2018].
Таким образом, постконфликтная интеграция выступает важной темой политических исследований, которые не только определяют причины и последствия вооруженных столкновений на этнической почве, но выявляют способы и технологии достижения мира. Постконфликтная интеграция предполагает систему мер по восстановление государственных институтов, экономической инфраструктуры и социальной консолидации. Тлеющие и возникающие этнополитические конфликты в разных точках мира обусловливают необходимость исследований процессов интеграции «взорванных обществ».
Список литературы Интеграционные процессы в постконфликтных обществах
- Авксентьев В.А., Аксюмов Б.В., Гриценко Г.Д. 2020. Этничность в политических конфликтах: этнизация политики и политизация этничности. -Политическая наука. № 3. С. 74-97.
- Аклаев А.Р. 2005. Этнополитическая конфликтология: анализ и менеджмент. М.: Дело. 472 с.
- Глухова А.В. 2020. Политические конфликты в глобальную эпоху (К проблеме теоретической идентификации). - Политическая наука. № 3. С. 13-33.
- Дробижева Л.М. 2008. Интеграционные процессы в полиэтническом российском обществе. — Официальный сайт Института социологии РАН. 18.11.2008. Доступ: http://www.isras.ru/publ.html?id=908 (проверено 01.09.2023).
- Дробижева Л.М. 2020. Смыслы общероссийской гражданской идентичности в массовом сознании россиян. — Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. № 4. С. 480-498.
- Конфликтология XXI века: пути и средства укрепления мира: материалы II Санкт-Петербургского международного конгресса конфликтологов. 2014. СПб: Изд-во СПбГУ. 439 с.
- Лебедева М.М. 1999. Политическое урегулирование конфликтов: учебное пособие. М.: Аспект Пресс. 271 с.
- Попов М.Е. 2016. Потенциал социокультурной интеграции в процессе конструктивного разрешения конфликтов идентичностей на Северном Кавказе. — Вестник Поволжского института управления. № 4(55). С. 103-110.
- Попов М.Е. 2018. Социокультурная интеграция как способ разрешения этнических конфликтов на Северном Кавказе. — Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 4. История. Регионоведение. Международные отношения. Т. 23. № 4. С. 186-196.
- Пырма Р.В. 2018. Политические сценарии референдумов о независимости регионов государств Евросоюза. — Гражданин. Выборы. Власть. № 4. С. 62-100.
- Тишков В.А. 2001. Общество в вооруженном конфликте: этнография чеченской войны. М.: Наука. 534 с.
- Тишков В.А., Шабаев Ю.П. 2011. Этнополитология: политические функции этничности. М.: Изд-во Московского университета. 376 с.
- Хасегава С. Руководство в постконфликтный период - ключевой фактор обеспечения устойчивого мира и развития. - Официальный сайт ООН. Доступ: https://www.un.org/ru/chronicle/article/21995 (проверено 01.04.2023).
- Этническое и религиозное многообразие России (под ред. В.А. Тишкова, В.В. Степанова). 2018. М.: Изд-во ИЭА РАН. 561 с.
- Annan K. 1997. UN Secretary General's Reform Announcement: Part II Measures and Proposals. 16 July. - Conflict Resolution Monitor. Vol. 2. P. 34-36.
- Boutros-Gali B. 1992. An Agenda for Peace. N.Y.: United Nations. 53 p.
- Fiedler C., Mroß K. 2017. Post-Conflict Societies: Chances for Peace and Types of International Support. - Briefing Paper 4. Deutsch's Institut für Entwicklungspolitik. 4 p.
- Forman S., Patrick S., Salomons D. 2020. Recovering from Conflict: Strategy for an International Response. N.Y.: Center on International Cooperation, New York University.
- Gaghman A. 2020. General Framework for Post-conflict Reconstruction in Yemen. -Technium Social Sciences Journal. Vol. 7. Is. 1. P. 236-250.
- Governance in Post-Conflict Societies: Rebuilding Fragile States (ed. by D.W. Brinkerhoff). London, N.Y.: Routledge. 292 p.
- Gurr T.R. 2000. Peoples versus States. Washington, DC: USIP Press. 448 p.
- Hampson F. 1996. Nurturing Peace: Why Peace Settlements Succeed or Fail. Washington, DC: USIP Press. 287 p.
- Hartoyo H., Sindung H., Teuku F., Sunarto S. 2020. The Role of Local Communities in Peacebuilding in Post-ethnic Conflict in a Multi-cultural Society. - Journal of Aggression, Conflict and Peace Research. Vol. 12. No. 1. P. 33-44.
- Lohr K., Morales-Muñoz H., Rodríguez T., Lozano C., Del Río M., Hachmann S., Bonatti M., Pazmino J., Castro-Nuñez A., Sieber S. 2022. Integrating the Concept of Peacebuilding in Sustainability Impact Assessment. - Environmental Impact Assessment Review. Vol. 95.
- Miall H., Rambsbotham O., Woodhouse T. 2011. Contemporary Conflict Resolution. L.: Polity Press. 507 p.
- Mohammed I. 2021. The Role of Youths in Post-Conflict Resolution: A SocioEconomic Perspective. - Jalingo Journal of Peace Science and Conflict Management. Vol. 1. No 1.
- Rothman J., Alberstein M. 2013. Individuals, Groups and Intergroups: Understanding the Role of Identity in Conflict and Its Creative Engagement. - Ohio State Journal on Dispute Resolution. Vol. 28. Is. 3. Р. 631-658.
- Zartman W.I. 1995. Elusive Peace: Negotiating an End to Civil Wars. Washington, DC: Brookings Institution.