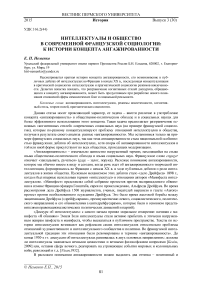Интеллектуалы и общество в современной французской социологии: к истории концепта ангажированности
Автор: Неменко Е.П.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Формы "Культуры согласия" В художественной среде
Статья в выпуске: 3 (30), 2015 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается краткая история концепта ангажированности, его возникновение в публичных дебатах об интеллектуалах во Франции в начале ХХ в., последующая концептуализация в критической социологии интеллектуалов и прагматической социологии режимов вовлеченности. Делается попытка показать, что разграничение когнитивных стилей дискурсов, обращающихся к концепту ангажированности, может быть продуктивным при разработке нового понимания отношений сферы символических благ и социальной реальности.
Ангажированность интеллектуалов, режимы вовлеченности, когнитивный стиль, теория полей, прагматическая социология
Короткий адрес: https://sciup.org/147203669
IDR: 147203669 | УДК: 316.2(44)
Текст научной статьи Интеллектуалы и общество в современной французской социологии: к истории концепта ангажированности
Данная статья носит проясняющий характер, ее задача – ввести различие в употребление концепта «ангажированность» в общественно-политическом обиходе и в социальных науках для более эффективного использования этого концепта. Такая задача предполагает разграничение основных «когнитивных стилей» современных социальных наук (на примере французской социологии), которые по-разному концептуализируют проблему отношений интеллектуалов и общества, получая в результате своего анализа разные «ангажированности». Мы остановимся только на примере французских социальных наук, так как тема ангажированности стала национальной особенностью французских дебатов об интеллектуалах, хотя споры об ангажированности интеллектуалов в той или иной форме присутствуют во всех обществах, проходящих модернизацию.
«Ангажированность» – изначально ценностно нагруженный термин, находящийся на стыке языка общественно-политического обихода и языка социальных наук. Французское слово engager означает «закладывать, ручаться» ( gage – залог, порука). Расхожее понимание ангажированности, которое мы обычно имеем в виду и сегодня, когда речь идет об ангажированности творческой интеллигенции, формировалось во Франции с начала XX в. в ходе публичных дебатов о роли интеллектуалов в жизни общества. Пусковым механизмом этих дебатов стало «дело Дрейфуса» 1898 г., когда и был впервые использован термин «интеллектуал» в отношении авторов «Манифеста интеллектуалов». «Манифест» представлял собой собрание протестов против несправедливого обвинения в измене Франции офицера Генштаба, еврея по происхождению, Альфреда Дрейфуса. Во время рассмотрения дела Дрейфуса 1500 журналистов, ученых, писателей выразили в газете «Aurore» протест против необоснованного осуждения Дрейфуса. Это было время жестокой борьбы между защитниками Дрейфуса («дрейфусарами», преимущественно левого, социалистического, политического направления) и его обвинителями («антидрейфусарами», которые были в основном представителями правонационалистических политических движений и партий).
«Дискурс об интеллектуалах» с самого начала принял моральное измерение: начиная с манифеста «Я обвиняю» Эмиля Золя интеллектуалы стали активно прибегать к этически нагруженным жанрам памфлета и манифеста, чтобы высказаться в публичном пространстве. Тексты по истории интеллектуалов возникают как рефлексия самих интеллектуалов относительно проблемы отношений художественного и интеллектуального сообщества и политики. Во французской интеллектуальной традиции эти отношения были резюмированы в термине «ангажированность». До конца 1930-х гг. дискуссия об интеллектуалах развивалась в двух основных направлениях: должны ли интеллектуалы заниматься вечными ценностями и вечными философскими вопросами [ Бенда , 2009] или, оставив сферу вечного, реагировать на угрожающие события мировых и колониальных войн, революций и т.д. [ Nizan ,1932].
В расхожем понимании ангажированности можно выделить два оттенка – позитивный и
негативный: ангажированность как активная политическая позиция, приверженность какой-либо идеологии и как предвзятое, необъективное и даже нечестное публичное высказывание. Идея об обусловленности художественного или научного высказывания моральной позицией или личным интересом автора не является новой, но в обществах модерна она провоцирует широкие публичные дебаты, так как, с одной стороны, вступает в противоречие с кантианской концепцией автономии сферы символических благ, таких как наука и искусство, от рынка, морали и политики. Автономное эстетическое суждение, согласно И. Канту, основано на принципе незаинтересованности, который противопоставлен утилитаризму экономики и морали. Этика незаинтересованности, составившая основание профессионального этоса художников и интеллектуалов в обществах модерна, была разработана Кантом в двух направлениях. В «Критике способности суждения» он развивает теорию чистого эстетического суждения, свободного от любых внешних ограничений. Согласно этой теории эстетический опыт имеет цель и ценность в себе самом. В «Критике практического разума» акцентируется принцип автономии воли, укорененной в этике ответственности автономного субъекта перед другими. В этом смысле незаинтересованное суждение – это суждение, за которое несет ответственность перед обществом и сообществом тот, кому оно принадлежит. Эти два аспекта незаинтересованности были определены самими интеллектуалами: от социальной репрезентации художника как гения и свободного творца в теориях «чистого искусства» и «l’art pour l’art» до концепций «ангажированной литературы» Ж.П. Сартра и «жизненной позиции» Э. Мунье.
В этой статье нас интересует следующий после обыденного употребления уровень артикуляции концепта ангажированности, который был установлен в современной французской социологии. Мы проанализируем способы концептуализации отношений интеллектуалов и общества в критической и прагматической социологических школах и сравним созданные ими концепции ангажированности. Социология всегда видела в искусстве и науке социально укорененные явления, однако разница между критическим и прагматическим подходом к проблеме ангажированности является существенной, так как они используют разные когнитивные стили [ Вахштайн , 2009], или креативные конфигурации [ Тевено , 2006]. Мы обратим внимание на взаимоотношение этих креативных конфигураций и природы их продукта. «Продуктом деятельности этих конфигураций являются общие знания о том, что управляет человеческим поведением» [Там же]. Говоря о когнитивном стиле социологической дисциплины, В. Вахштайн использует метафору оптики. «Аксиоматика (посредством метафор) задает оптику теории. Оптика – это стратегия взгляда. Исследователь видит мир таким, каким его делает доступным взгляду его собственный теоретический словарь. Изменяя “настройки” теории, мы изменяем пространство ее “оптических” возможностей. Эпистемическая проблема, проблема, которую можно исследовать в пределах выбранных различений, – это всегда результат осмысленных усилий проблематизации и никогда не свойство самого объекта» [ Вахштайн , 2011, с. 62]. Мы полагаем, что разграничение когнитивных стилей дискурсов, в которых используется концепт ангажированности, может быть продуктивным в плане разработки нового понимания отношений интеллектуалов и общества.
Критическое направление во французской социологии связано с Пьером Бурдье и целой плеядой его последователей и учеников. Принцип структурального анализа, который практикует критическая социология, заключается в том, что социальные репрезентации агентов обретают свою социологическую значимость только по отношению к другим репрезентациям. Поэтому исследовать нужно не отдельные позиции, а структуру отношений между ними, которую Бурдье называет полем.
Ученица Бурдье Жизель Сапиро, опираясь на анализ структуры интеллектуального поля, разработала сетку форм политизации в интеллектуальном поле и соответствующих им моделей политической ангажированности интеллектуалов [Sapiro, 2009]. Находясь на пересечении политического поля и поля символического производства, интеллектуальное поле входит в поле идеологического производства. В этом универсуме сталкиваются индивиды и группы, принадлежащие к разным полям (политическому, академическому, журналистскому, литературному и т.д.), в борьбе за навязывание легитимного видения социального мира. Специфика способа вмешательства интеллектуалов в политику заключается в обязанности соотносить свою ангажированность с собственно интеллектуальными (а не политическими) дебатами и ставками борьбы, иначе они рискуют быть исключенными из интеллектуального поля. Определенный таким образом этот специфический вид вмешательства принимает разнообразные формы, более или менее политизированные, от пророче- ства до экспертизы. Эти формы позволяют определить позиции с дискурсивной точки зрения (от памфлета до диагностики) и с точки зрения их содержания. Сапиро предлагает рассмотреть модели политического вмешательства интеллектуалов и их эволюцию в ХХ в., исключая формы ангажированности, которые не являются специфически интеллектуальными, как, например, манифестации, профсоюзное движение; в них интеллектуалы могут принять участие наряду с другими гражданами, но они не основываются на валоризации специфического символического капитала, не оправдывают отношение, отличное от других социальных категорий, а именно тема напряжения между мыслью и действием, которая проходит через все дебаты об ангажированности интеллектуалов.
Сапиро начинает свой анализ с выделения факторов, которые дают возможность дифференцировать модели политического вмешательства интеллектуалов с идеально типической точки зрения. Если валоризация культурного капитала важна для ангажированности интеллектуалов именно как интеллектуалов, то разнообразие ее форм следует связывать со структурой социального пространства, в котором они, согласно Бурдье [ Бурдье , 2000], образуют подчиненную фракцию в господствующих классах. Модели и формы ангажированности стремятся к делению в соответствии с тремя факторами, структурирующими интеллектуальное поле: символическим капиталом, автономией по отношению к политике, степенью специализации [ Sapiro , 2009, p.10]. Первый фактор – позиция, занимаемая в интеллектуальном поле в соответствии с общим объемом символического капитала. Как полагает Сапиро, чем более господствующую позицию мы занимаем в поле, тем больше наша склонность универсализировать частные интересы в деполитизированной форме (морализм, формализм, теоретизация, эстетизация). Модели ангажированности являются также функциями символического капитала. Те, кто его лишен, предпочитают участвовать в анонимных акциях, таких как составление манифестов, манифестация, синдикалистская деятельность (интеллектуальный синдикализм) или вхождения в этнополитические группы. Напротив, обладатели большего символического капитала стремятся к более индивидуализированному либо коллективному действию, в котором бы проявилась сумма индивидуальных символических капиталов его участников.
Символический капитал может быть либо институциональным (дипломы, награды, должности), либо «харизматическим» (имя собственное автора, как, например, Андре Жид, Жан Поль Сартр). Возможно сочетание этих двух типов капитала, и тогда харизматический капитал может влиять на занятие институциональной позиции (случай Мишеля Фуко и Пьера Бурдье). Если компетенции, зафиксированные дипломом и институциональной должностью и строго детерминированными процедурами диагностики, признаются как экспертиза, то харизматический тип капитала располагает к признанию типа пророчества.
Второй фактор дифференциации – автономия по отношению к внешним политическим требованиям. «Начиная с обретения автономии интеллектуального поля в XIX в. политические организации, партии, религиозные институты, предприятия стремятся захватить харизматическую власть интеллектуалов, навязывая им определение их социальной миссии для того, чтобы подчинить ее своим собственным интересам» [ Sapiro , 2009, p.11]. Можно вспомнить термин А. Грамши «органический интеллектуал» для обозначения того, кто соглашается подчиниться дисциплине партии или института. До интеллектуалов похожую модель подчинения институту практиковали священники. В относительно автономном интеллектуальном поле крайнюю форму зависимости от внешних требований демонстрируют интеллектуалы, которые выбрали интеграцию в идеологический аппарат института или партии, отказавшись от свободы критики. Эксперт, который осуществляет «нейтральную» диагностику для публичной политики (либо для института или предприятия), должен тоже в какой-то степени отказаться от критической позиции и подстроиться под требования государства (или другого института), заняв подчиненную позицию по отношению к обладателям экономического и политического капитала. И, наоборот, чем больше у интеллектуала специфического символического капитала, тем более он способен сам определять модальность и форму своей ангажированности, независимо от гетерономных концепций социальной роли интеллектуала, определяемой для него полем власти и политическими партиями, которые стремятся завладеть его символическим капиталом. Это тип «критического интеллектуала», который пытается универсализировать ценности, присущие интеллектуальному полю, в ходе публичных дебатов, как, например, дрейфусары в ходе «дела Дрейфуса» [ Sapiro , 2009, p.15].
Третьим фактором структурирования интеллектуального поля, который детерминирует способы политического вмешательства, является степень специализации интеллектуальной деятельно- сти. Конкуренция между видами деятельности позволяет структурировать интеллектуальное поле, противопоставляя «полезным» профессиям, функционирующим на основе экспертизы, творческие виды деятельности, часто исключенные из истории профессий, но ассоциирующиеся во Франции в большей мере, чем свободные профессии, с интеллектуальной ангажированностью. Что касается писателей, то разделение труда и выделение области экспертизы лишили их целого ряда объектов приложения своих компетенций (историей стали заниматься историки, моралью – социологи и т. д.). Сапиро выдвигает гипотезу о том, что именно сужение сферы профессиональных компетенций может частично объяснить явление политизации интеллектуалов [Сапиро, 2011, c. 98].
Итак, критическая социология, следуя установке Дюркгейма «объяснять социальное социальным», объективирует концепт ангажированности, который сложился в ходе дебатов об интеллектуалах, и видит в нем уже не занятие сознательной моральной и политической позиции или корыстный личный интерес, но детерминированность действий и дискурса интеллектуалов их позицией в социальном пространстве. Сапиро релятивизирует «наивный» здравый смысл интеллектуального дискурса и показывает, что формы политизации и виды ангажированности интеллектуалов различаются в зависимости от занимаемой ими позиции в литературном и интеллектуальном поле, т.е. от объема и структуры имеющегося у них капитала. К экономической метафоре понимания ангажированности как личного интереса критическая социологическая теория добавляет допущение бессознательности, нерационализируемости этого интереса, который доступен социологическому анализу (агенты включены в социальную игру, так как обладают illusio – верой в то, что игра стоит свеч [ Bourdieu , 1998]). Поскольку базовой метафорой когнитивного стиля критической социологии является понятие игры [ Lemieux , 2011], видимая благодаря этой оптике картина реальности представляет собой поле конкурирующих между собой агентов. Такая оптика позволяет закрепить за концептом ангажированности статус «нечистого» явления, отклонения от «благородного» автономного полюса интеллектуального поля2.
Рассмотрим когнитивный стиль, или креативную конфигурацию прагматической социологии, которая по-другому концептуализирует проблему ангажированности. Ее разрабатывают с конца 1980-х гг. исследователи Высшей школы социальных наук в Париже Люк Болтански и Лоран Тевено. Тевено ставит концепт ангажированности, или вовлеченности3, в центр своей теоретической программы, которую он называет «социологией режимов вовлеченности в мир». «Стремясь разработать основы прагматической социологии, в которой бы в полной мере учитывались моральные (оценочные) составляющие множественных режимов действия, а также напряжение, сопровождающее переход от одного режима действия к другому в зависимости от ситуации, я ввел в употребление понятие "вовлеченность" (engagement). Оно характеризует состояние людей и вещей, «вовлеченных» в прагматические испытания. Такие понятия, как "действия" или "практики", представлялись мне недостаточными для того, чтобы высветить те общие черты, что свойственны всем "режимам вовлеченности". Каждый из них представляет собой ручательство , своеобразные рамки гарантии, которые обеспечивают достижение блага в том или ином формате "схватываемой" реальности. Создаваемые нами фигурации являются более "углубленными" и по своему представлению о человеке. Вместо того чтобы закреплять за человеком устойчивую социальную идентичность или габитус, мы стараемся рассмотреть целостность человека не как зафиксированную данность, а как проблематичное интегрирование множественных и разноуровневых форм вовлеченности в мир» [ Тевено , 2006].
Говоря о стремлении агентов к общему благу, с одной стороны, и о прагматике их действий – с другой, прагматическая социология, как кажется, рискует быть обвиненной в наивном идеализме и в утилитаризме одновременно. Несмотря на то что прагматизм ставит во главу угла практику и целесообразность действия, следует отличать его от утилитаризма. Практическая целесообразность понимается прагматистами «не столько в значении выгоды и пользы, сколько в значении опытной проверки объекта на адекватность ситуации. Опыт в таком понимании является многообразным и многогранным: это и собственно технический опыт, и моральный, и эстетический, и социальный» [ Ковенева , 2007, с. 42]. Что касается опасения показаться идеалистами, то следует разобраться с концептом вовлеченности Тевено и рассмотреть, какие именно устанавливаются связи между практикой и общим благом в его теории.
В работе «Действие во множественном числе. Социология режимов вовлеченности» Тевено вводит четыре уточняющих категорию вовлеченности теоретических расширения [ Thévenot , 2011].
Во-первых, вовлеченность следует понимать как целенаправленную инвестицию власти (в значении силы, мощи, энергии) в дело (общее дело/ индивидуальный проект/ личные, семейные отношения). Сила у Тевено – это способность агента к координации отношений: от наиболее привычных, близких (с самим собой, емьей и друзьями) до наиболее сложных и отчужденных (с коллегами, незнакомыми людьми, институтами).
Во-вторых, прагматисты не испытывают иллюзий по поводу того, что все социальные действия вносят вклад в общее благо, скорее напротив: концепт вовлеченности позволяет варьировать описание действий агентов в зависимости от степени общности блага , на достижение которого направлено действие. Тевено выделяет три режима вовлеченности и отражает их в виде прямой по принципу нарастания публичности (общности): от наименее публичного режима (режим близости: повседневные рутинные действия, в которые вовлеченность актора, а значит, «субъективность» действия, минимальна) через режим планового действия (намерение, рациональность, расчет) к наиболее публичному режиму (режим критики и оправдания: ситуации, когда актор должен подключить свою критическую способность и апеллировать к принципам справедливости порядка, выходящим за пределы конкретной ситуации).
Третье расширение термина вовлеченности касается «залога», вклада в дело, который является гарантией вовлеченности. Вовлеченность как инвестиция может гарантировать координацию действий только ценой принесения в жертву других потенциальных коопераций. Практика вовлеченности есть благо, так как она создает репутацию («дает гарантии») вовлеченному в нее человеку, позволяя другим доверять ему, а значит, планировать и выстраивать с ним долгосрочные социальные связи, требующие доверительных отношений.
В-четвертых, Тевено предлагает учитывать две фазы вовлеченности: фазу спокойствия и уверенности в справедливости и выгодности сделки; фазу тревоги и сомнения, которые заставляют ставить под вопрос принесенные ради сделки жертвы. Фаза уверенности в сделке покоится на конвенции, вырабатываемой в режиме публичности, или на повседневной рутине и комфорте режима близости. Конвенции в публичном режиме вырабатываются путем коллективных усилий по оправданию практики. Сомнение и подозрение в практике выражается в форме критики. Чем более публичным является режим действия, тем к более «универсальным» (т.е. оторванным от конкретной ситуации и отражающим данный порядок справедливости) ценностям апеллируют участники спора (montée en universalité). Публичные споры интересны с точки зрения максимальной экспликации аксиоматики, или ценностей «вовлеченных» субъектов, которые в обычной повседневной ситуации остаются латентными.
Смыслы и ценности сферы интеллектуального производства рождаются не только в дискуссиях профессионалов, но и в большей степени, что в ХХ в. особенно заметно, в спорах с непрофессионалами. Другими словами, интеллектуалы оттачивают свою аксиоматику в оправдании нужности и легитимности своей деятельности, отвечая на ожидания общества. С этой точки зрения политическую ангажированность интеллектуалов в XX в. следует понимать как серию компромиссов, усилий по согласованию ценностей мира искусства/науки с требованиями, предъявляемыми к ним со стороны «демократического режима» [ Heinich , 2005]. Суть требований демократизации культуры в ХХ в. связана с разрывом между эстетической и интеллектуальной инновацией и динамикой культурного потребления масс и со стремлением интеллектуалов преодолеть этот разрыв.
В отличие от метафоры игры и понимания ангажированности как индивидуальной стратегии в борьбе за успех и символический капитал метафора вовлеченности позволяет включить в интерпретацию действий агентов реальность возможных рисков и ориентацию на достижение общего блага: «Формы вовлеченности акторов подразумевают направленность на блага, обладающие большей или меньшей степенью всеобщности» [ Тевено , 2006]. Концепт ангажированности, понятой в более широком смысле – как вовлеченность в мир, в качестве базовой метафоры прагматической социологии имеет нормативное измерение, задает оптику исследования: в основании социальной связи лежит не конкуренция, а ручательство, сделка, залог. Интеллектуалы разделяют с неин-теллектуалами вовлеченность в мир, нет разрыва между интеллектуалом и профаном, между наукой/искусством и здравым смыслом, и это исходная нормативная рамка. Вовлеченность – это концепт, который позволяет заново установить связи между повседневным знанием, гуманитарной рефлексией и художественными репрезентациями.
Список литературы Интеллектуалы и общество в современной французской социологии: к истории концепта ангажированности
- Бенда Ж. Предательство интеллектуалов. М., 2009
- Бурдье П. За ангажированное знание//Неприкосновенный запас. 2002. № 5.
- Вахштайн В. Конец социологизма: перспективы социологии науки//Полит.ру.2009.6 авгу-ста.URL:www.polit.ru/lectures/2009/08/06/videon_vahshtain.htm (дата обращения: 17.02.2012)
- Вахштайн В. Постсоветская социология: конец первого акта//Социология: теория, методы, маркетинг. 2011. № 2
- Ковенева О. Грани опыта в свете американского прагматизма и французской прагматической социологии//Человек. Сообщество. Управление.2007. №4
- Сапиро Ж. Интеллектуальные профессии между государством, предпринимательством и промышленностью//Символическая власть. Социальные науки и политика. М., 2011
- Тевено Л. Креативные конфигурации в гуманитарных науках и фигурации социальной общности//НЛО. 2006. № 77. URL: http://magazines.russ.ru/nlo/2006/77/teve22.html (дата обращения: 15.03.2015)
- Bourdieu P. Is a Disinterested Act Possible?//Practical Reason: On the Theory of Action. Stanford, 1998
- Heinich N. L'elite artiste. Excellence et singularite en regime democratique. Paris, 2005
- Lemieux C. Le crepuscule des champs. Limites d'un concept ou disparition d'une realite historique ?//Bourdieu, theoricien de la pratique. Paris, 2011
- Nizan P. Les Chiens de garde. Paris, 1932
- Sapiro G. Modeles d'intervention politique des intellectuels. Le cas francais//Actes de la recherche en sciences sociales. 2009/1. № 176-177
- Thevenot L. Grand resume de «L'Action au pluriel. Sociologie des regimes d'engagement, Paris, Editions La Decouverte, 2006», Sociologie , mis en ligne le 06 juillet 2011, consulte le 08 juin 2012. URL: http://sociologies.revues.org/3572 (дата обращения: 07.07.2015)
- Бурдье П. Поле литературы//НЛО. 2000. № 5