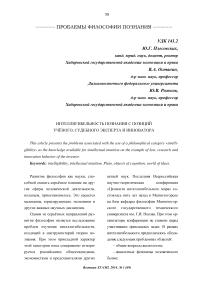Интеллигибельность познания с позиций учёного, судебного эксперта и инноватора
Автор: Плесовских Ю.Г., Останин В.А., Рожков Ю.В.
Журнал: Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права @vestnik-ael
Рубрика: Проблемы философии познания
Статья в выпуске: 1, 2014 года.
Бесплатный доступ
В этой статье представлены проблемы, связанные с использованием философской категории «интеллигенция» как знания, доступные для интеллектуальной интуиции на примере закона, исследования и инновационного поведения инвестора.
Короткий адрес: https://sciup.org/14319819
IDR: 14319819
Текст научной статьи Интеллигибельность познания с позиций учёного, судебного эксперта и инноватора
Развитие философии как науки, способной оказать серьёзное влияние на другие сферы человеческой деятельности, полагаем, приостановилось. Это касается медицины, юриспруденции, экономики и других важных научных дисциплин.
Одним из серьёзных направлений развития философии является исследование проблем изучения интеллигибельности, входящей в инструментарий теории познания. При этом прикладной характер этой категории пока совершенно игнорируется российскими обществоведами, экономистами и представителями других ветвей наук. Последняя Всероссийская научно-теоретическая конференция
«Ценности интеллигибельного мира» состоялась пять лет назад в Магнитогорске на базе кафедры философии Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова. При этом организаторы конференции не ставили перед участниками прикладных задач. В рамках интеллигибельности предполагалось обсуждение следующих проблемных областей:
– общие вопросы аксиологии;
– ценностные феномены человеческого бытия;
– ценностные аспекты различных сфер культуры;
– историко-аксиологические исследования;
– ценности в современном мире [1].
Другие конференции по данной тематике в России не проводились. Мы в общем плане согласны с мнением А.Г. Войтова, что «Философия гибнет … она стала бесцельной игрой ума... Только философия способна сотворить чудо – обеспечить качественный рост образованности общества» [2]. Разберёмся с проблемами интелли-гибельности познания более подробно.
Интеллигибельность (от лат. intelligibilis – понятный, чёткий, постижимый умом) – философский термин. Он обозначает познание, постижение, доступное исключительно уму в форме интеллектуальной интуиции. Многими авторами такое постижение называется «умопостигаемость».
Первым разделение предметов познания на интеллигибельные ( intelligibilis ) и сенсибельные ( sensibilis ) осуществил древнегреческий философ Платон. Под интеллигибельностью он понимал мир идей. Это особый мир интеллектуальных сущностей, усматриваемых и постигаемых лишь с помощью ума. Платон применил в своей философии трактовку интеллигибельного предмета как идеи, и она в таком качестве сохранилась вплоть до сегодняшнего дня.
В диалоге «Государство» Платон говорит о концепции, идее блага как высшем объекте познания. Под словом «благо» понимается не просто нечто, оцениваемое положительно с точки зрения эти- ки. Это, по Платону, онтологическое совершенство, к примеру, добротность конкретной вещи, её полезность и высокое качество. Причём благо нельзя определять как удовольствие, ведь есть «дурные» удовольствия. Поэтому благом нельзя называть то, что приносит нам пользу, если это же самое может нанести вред другому. Это благо «само по себе». Как и в сфере «чистого познания», идея блага – необходимое условие и познаваемости самих идей, и способности человека познавать идеи. Сократ утверждает: «Что придаёт познаваемым вещам истинность, а человека наделяет способностью познавать, это ты и считай идеей блага – причиной знания и познаваемости истины» [3]. Опуская взгляды Аристотеля на рассматриваемую проблему, хотя они весьма интересны и поучительны, покажем отношение Иммануила Канта к ин-теллигибельности. И. Кант (работа «Критика чистого разума») развивает идею ин-теллигибельности как идею ноумена (умопостижение). Это так называемая «вещь-в-себе». В ряде переводов работ Канта конца XX в. используется другой перевод – «вещь сама по себе», которая дана человеку только в разуме, но которую невозможно познавать чувственным, эмпирическим способом. Её можно только мыслить, но не познавать.
Как видим, Кант полагал, что вещь-в-себе недоступна познанию посредством опыта, она является чисто умопостигаемой категорией. «Если уничтожить наши субъективные свойства, – пишет Кант – то окажется, что представляемый объект с качествами, приписываемыми ему в чувственном наглядном представлении, нигде не встречается да и не может быть нигде найден, так как именно наши субъективные свойства определяют форму его как явления» [4]. Интересно отношение И. Канта к опыту. Он полагал, что «Опыт никогда не даёт своим суждениям истинной или строгой всеобщности, он сообщает им только условную и сравнительную всеобщность» [4]. По данному поводу И.Б. Якушев отмечает: «По Канту получается, что каждая причинноследственная связь определяет закономерности только для данного случая, не распространяя их на все аналогичные эпизоды. Таким образом, опыт сам по себе не может быть основанием для всеобъемлющих выводов» [5].
Мы не можем обойти стороной взгляды Германа Когена (1842 – 1918), немецкого философа, основателя и виднейшего представителя марбургской школы неокантианства. В своих работах «Теория опыта Канта» (1885), «Обоснование Кантом этики» (1877), «Обоснование Кантом эстетики» (1889), «Логика чистого познания» (1902), «Этика чистой воли» (1904) и других он преобразовал кантовское учение, основав чисто гносеологическую философию, не ищущую для себя каких-либо предпосылок, существующих вне и независимо от познания. Таким образом, философия модифицировалась в логику чистого познания, ориентированную на поиски внутреннего систематического единства знания. А само это знание понималось как самостоятельная и беско- нечно саморазвивающаяся система, в рамках которой развертываются все отношения между частными содержаниями научных положений. В последние включались и отношения между познанием и действительностью, субъектом и объектом. Интересно, отметить, что Жак Мари-тен (1882 – 1973), крупнейший религиозный философ современности (основоположник, наряду с Э. Жильсоном, неотомизма) понятия «интеллект», «интелли-гибельность» хотя и не считал однопорядковыми категориями, но часто употреблял их рядом, подчёркивая их единство. Ж. Маритен, говоря о ступенях познания, пишет: «На первой ступени ум познаёт объект, выделенный им из неожиданного и случайного момента чувственного восприятия, сама интеллигибель-ность которого предполагает обращение к чувственному. Эта первая ступень, самая низшая в научной абстракции, и есть ступень физики, натурфилософии; она определяет область чувственной реальности. Над ней располагается ступень математической абстракции, где ум познаёт объект, интеллигибельность которого уже не предполагает непосредственного обращения к чувственному, но только к вообразимому. Это область математической внереальности. И наконец, на высшей ступени рассудочного созерцания, то есть на метафизической ступени, интеллиги-бельность объекта изучения свободна от всех обращений к чувству или к воображению. Здесь находится область сверхчувственной реальности» [6]. Интеллект тесно связан с разумом. Последний, как известно, относится к высшей способности познания. Он противопоставлен эмпирическому познанию, которое есть историческое познание, не имеющее под собой аналога, опыта. Рациональное познание также лишено оснований для заслуживающих внимания суждений в силу невозможности верификации. Тем не менее человек может судить о степени рациональности по опыту. «Откуда бы ни дано было познание первоначально – отмечал Кант, – у того, кто им обладает, оно имеет исторический характер» [4]. Любая человеческая деятельность, включая её профессиональные виды, непосредственным образом связана с процессом познания. В этом процессе определяющую роль всегда играла интуиция. Например, в науке как процессе создания теорий и их моделей главенствует творческая интуиция. Посредством творческой интуиции происходит селекция гипотез, что позволяет представить реальность в её существенных особенностях. Как иллюстрация положений теории познания, его интеллиги-бельности может быть использована деятельность эксперта в процессе судебноэкспертного исследования. Эксперт, изучая объект исследования, воспринимает отдельные его свойства (выражающиеся в признаках) посредством своих органов чувств. Основываясь на этих ощущениях, он воспринимает этот объект в его целостности, осознаёт его на основе вовлечения вновь полученного впечатления в систему уже имеющихся знаний. При этом восприятие экспертом объектов материального мира активно. Эксперт свои- ми действиями старается поставить исследуемый объект в такие условия, чтобы последний мог восприниматься наилучшим образом и с разных сторон. Далее на основе ощущений и восприятий судебный эксперт формирует собственные представления об объектах исследования. В их формировании участвуют ранее сформировавшиеся в сознании эксперта ощущения и восприятия. Важна здесь и роль воображения эксперта и значение абстрактного мышления [7, с. 17 – 19]. Полагаем, что процесс интеллигибельности объекта изучения со стороны судебного эксперта очевиден, на что совершенно не обращается внимания учёными в рамках юридических научных исследований.
Наиболее ярко процесс интеллиги-бельности проявляется при формировании и реализации инновационных проектов. Это связано с тем, что инноватор, используя прошлый профессиональный опыт, имеющиеся теоретические знания, опирается исключительно на себя; не имея возможности осознать и оценить объективную сторону инновационного процесса, он фактически опирается на веру [8]. Но это не слепая вера, ведь она основана на творческой интуиции, это его «путеводная нить», которую даёт ему инновационная идея, хотя она ничего не может дать с позиции количественной и качественной оценки состоятельности самой идеи. Несомненно, что и здесь уместно употреблять термин «интеллиги-бельность» как постижение, доступное исключительно уму или интеллектуальной интуиции предпринимателя- инноватора. Интеллигибельность инноватора, как и любого иного субъекта, «имеет строго индивидуализированную основу понимания, которая распространена на все особенности восприятия личности … каждая личность воспринимает мир по-своему» [9]. Иными словами, творческая интуиция разных субъектов рынка будет проявляться различным образом, возможно, даже противоположно к одному объекту приложения инноваций.
Теория интеллигибельности, как мы считаем, в России пока не развивается. Так, остаётся далёкой от разрешения проблема формирования образов в области интеллигибельного. Если отбросить теорию врожденных идей (родоначальник – Платон), то следует признать также положение, что в сфере интеллигибельного все-таки доминируют понятия, суждения, производные от трансценденталий. И хотя обычно их ограничивают шестью элементами (вещь, сущее, добро, истина, нечто, единое), тем не менее этот перечень можно существенно расширить. Но если трансценденталии как форма познания направлены не только на предмет, но и на познание интеллектом этого предмета (хотя бы в той мере, в которой оно возможно априори), то это оставляет возможность познания предмета эмпирически. Интеллигибельность же как форма познания уже переносит мыслящий разум в сферу идеальных сущностей, которые доступны познанию из природы только с помощью интеллекта, или интеллектуального созерцания. Если речь идёт о сущностях экономических или иных про- цессов, то мы могли бы употребить здесь известное выражение Ф. Шеллинга «das Wesenschau», или «сущностное видение». Здесь мы достигаем наиболее глубокой абстракции от конкретного, от опытного, эмпирического. В этой связи более легко схватываемое различие интеллигибельного и эмпирического даёт диалог Платона с основоположником школы киников Ан-тисфеном и его учениками, который стал известен благодаря Диогену Лаэрскому. Платон задал Антисфену вопрос: «Ты стол и чашки видишь?». Следует ответ: «Стол и чашки вижу». «А стольность и чашкостность видишь?» Следует ответ: «Не вижу». На что Платон замечает: «Чтобы видеть стол и чашки, у тебя есть глаза. Но у тебя нет ума, чтобы видеть стольность и чашкостность». Видеть стольность и чашкостность – это видеть исключительно умом, что прекрасно выражается русским словом «умозрительность», однако лишь в положительном смысле. Отсутствие интеллигибельного мышления есть не менее существенный недостаток человека, чем потеря осязания.
Фактически интеллигибельное мышление есть одновременно интеллектуальное созерцание, которую одновременно следует понимать по Гёте и как научную интуицию, и как «созерцание внутренней творческой природы». В итоге мы можем вынести суждение, что мир учёного-исследователя, экономиста-новатора, юриста, предмет которого философия права, есть мир интеллигибельный, который можно трактовать как мир умопости- гаемый, как мир конкретных моделей, новаторских идей, что в совокупности составляют духовную действительность. Однако в этом процессе познания разум следует за волей. Она преодолевает рассеянность мышления, сосредоточивая мысли на уже априори выработанном бессознательном побуждении, тем самым предваряя и саму тенденцию мышления, следовательно, и получаемых в итоге результатов. И. Кант поэтому приходит к мысли о необходимости разнесения понятий «мнение», «вера», «знание».
Мнение, по Канту, есть сознательное признание чего-либо истинным, необходимым, значимым или наоборот. Мнение недостаточно как с субъективной, так и с объективной сторон. Признание истинности суждения имеет достаточное основание со стороны субъекта, но недостаточное – с объективной стороны. Наконец, если с субъективной и объективной сторон имеется достаточное основание сформулировать суждение о самом объекте познания, то здесь мы уже имеем знание как таковое [4].
Следовательно, интеллигибельность важна для углубления сущности процесса познания. Познание есть то, что направляется на объект с целью отражения его в некоторой форме идеального образа. Это то, что классики называли осознанным бытием. Но то, что направлено на собственное «Я» субъекта, или то, что И. Кант называет «знание объекта с субъективной стороны», то есть самоосознание «Я», есть уже воля, как трактует эту часть отношений познающего субъекта
А. Шопенгаур. Именно воля управляет разумом, ориентированным на объект, сквозь призму опосредованного к самому себе отношения, то есть опосредованного волей. И именно воля, а эта идея проводится нами в качестве основополагающей, управляет самим разумом, придавая знаниям об объекте (наука, юриспруденция, экономика, инноваторство и т.д.) системность, а не форму некоего набора, отрывков. Это понятие уже несёт в себе большие признаки целостности. Ведь истинное понятие разума, по Канту, содержит в себе цель и соответствующую ей форму целого. Единство цели, к которому относятся все части (целого) и в идее которого они соотносятся также друг с другом, объясняет то, что, приобретая знания, нельзя упустить из виду ни одной из частей. Будучи инициированным волей, разум довольствуется уже не столько логикой, опорой на эмпирические факты, сколько принимает априори всевозможные, доступные хотя бы для здравого смысла модели (хотя это не совсем обязательно). Эта область отрывается от постигаемого мира эмпирически, находясь всецело в сфере умопостигаемого, то есть интеллигибельного. Это существенное, на наш взгляд, добавление, позволяет уже не довольствоваться традиционным понятием знания вообще, а углублять последнее, доводя знание до понимания. В этом случае само осознание предмета мысли приобретает больше признаки целостного знания, а именно понимание смысла. Мы утверждаем, что эти формирующиеся целостные умопостигаемые модели объекта исследования уже привносят в осознание нечто такое, что скрыто для исследователя, если он находится в замкнутой раковине профессиональных интересов. Смысл сложных и онтологически противоречивых социально-экономических процессов, протекающих в современном мире, остаётся во многом не понят, хотя обильное всезнайство с избытком обнаруживает себя. Осознание объективного мира уже не может вписаться в традиционную схему абсолютного тождества субъекта и объекта. Более того, оно становится просто бессмысленным и бесплодным для познания. Современное состояние теории познания не характеризуется раскрытием природы экономических, социальных, политических процессов и событий. Осмысленное ли, непроизвольное ли изгнание диалектики из общественно-политических наук привело к самоограничению познания. Эмпирическое самодовольство сковывает волю, а давление западной, в основном американской экономической мысли, этого современного направления мейнстрима (англ. mainstream – основное течение) в экономической теории, привело к неуверенности в себе, в свои возможности истинно осмыслить специфическую российскую действительность. В результате экономическое познание оказалось запертым в духоте инородных мелкотравчатых социально-экономических воззрений. И если познание не поднимается до понимания смысла происходящего в России, то оно сознательно начинает ограничивать само себя, довольствуясь, как образно выра- зился А. Шопенгауэр, конюшенным кормом профессуры, самым подходящим «для отрыгивающих жвачку» [10, с. 153].
Интересы большинства россиян имеют мало что общего с навязываемыми ценностями как власть предержащими, так и холуйствующими в современной официальной науке экономистами, юристами, политиками и ангажированными властью представителями философского знания. Интересы людей объективно требуют, чтобы материальные интересы россиян воспринимались бы ими самими в первую очередь, осознавались бы ими без «розовых» очков, без прикрас. И до тех пор, пока в обществе не будет преломлена тенденция в довольствовании явлений без понимания их скрытого смысла, познание будет отличать ущербность.
Интеллигибельность как философский метод духовного освоения и присвоения мира, как нам представляется, позволит приоткрыть «покрывало Майи» (Майя – имя богини, которая воплощала принцип обмана в мире). Это позволит изменить всё то, что есть в современной действительности [11]. Это «всё» может находить себя только в сфере интеллигибельности познания, моделей, которые формируются не разобщённым, а целостным сознанием. Известно, что мир есть мир целостный, взаимосвязанный, взаимоувязанный и взаимообусловленный., Экономист, юрист, политик и другие, действуя в узкопрофессиональных интересах, стремясь познать этот целостный мир, начинают препарировать его, подвергать анализу, расщепляя и абстрагируясь от тех момен- тов, которые они признают несущественными с позиций их профессиональных интересов. Этот момент прекрасно выразил Гёте словами Мефистофеля:
Живой предмет желая изучить,
Чтоб ясное о нём познанье получить,
Учёный прежде душу изгоняет, Затем предмет на части расчленяет.
И видит их, да жаль: духовная их связь
Тем временем исчезла, унеслась! [12].
Мир, познаваемый субъектами, всегда предстаёт изначально как органическое целое. Этот мир объективен, независим от осознания того факта, что способно ли само сознание его отразить в мышлении. Сознание, по выражению К. Маркса, есть осознанное бытие. Если мы нечто не можем осознать, то это совсем не означает, что самого бытийствующего объекта не существует. Однако и само фундаментальное понятие в философии «бытие» оказалось предельно отягощённым и противоречивым в своём содержании и объёме. К. Поппер отмечает по этому поводу: «Слова «объективный» и «субъективный» являются философскими терминами, обременёнными тяжёлым наследием противоречивых способов использования, нескончаемых и безрезультатных дискуссий. Мой способ использования терминов «объективный» и «субъективный» весьма напоминает кантовский. Кант использует слово «объективный» для того, чтобы указать, что научное знание должно допускать оправдание, независимое от чьей-либо прихоти. Оправдание, по Канту, «объективно», если оно в принципе может быть проверено и понято любым че- ловеком» [13, с. 66]. Проблема нам, однако, видится несколько в другом. Мир, познаваемый субъектом и противостоящий ему, всегда есть целое. Это целое, объективное, реальное есть необходимая предпосылка отображения в мышлении, в системе понятий и категорий иного целого уже существующего в самом сознании, однако не как органического целого, а как некоторого единства абстрактных своих определений.
На первом этапе это реальное, конкретное целое чувственно переживается, отражаясь в процессе созерцания, обоняния, осязания и т.д. Оно воспринимается на этом этапе как чисто внешнее, противостоящее мыслящему субъекту. Реальное целое, например мир экономики или юриспруденции, предстает как набор хаотичных представлений о них. Однако на этом этапе сознание не является равнодушно отражающим этот мир.
Избирательность сознания ощущается уже изначально. Само сознание может это и не осознавать, оно может присутствовать имплицитно (англ. implicit – подразумеваемый, невыраженный). Это в качестве теоретической предпосылки объясняется следующим положением.
Если говорить о мире экономики, то он не есть исключительно совокупность факторов производства, которые присваиваются, отчуждаются, заимствуются индивидами, субъектами присвоения. Последние осуществляют тем самым всю совокупность отношений собственности в обществе. Собственность как общественное отношение только подчёркивает, выявляет то важное для последующих на- ших выводов положение о том, что сам индивид несёт на себе момент абстрактности. Индивид как субъект присвоения не может теоретически мыслить об объекте (в нашем случае это мир экономики) как целом, хотя сам «индивид», «индивидуум» (от лат. individuum – неделимое) есть органическое целое, как отдельный живой организм, как особь.
Однако в обществе индивидуум есть отдельный человек, личность, но именно общество превращает индивидуума как отдельного человека в лицо зависимое, вынутое из социума, то есть делает его абстрактным существом. Он может претендовать на целое как существо биологическое, но уже в роду он становится абстрактным, теряющим свою независимость и признаки целостности. Индивид привязан к другим индивидам узами, которые гораздо крепче пуповины. Эта связь, скорее, обнаруживает, выявляет его собственную абстрактность, она превращает его из самодостаточного целого в элемент общества. Последнее предопределено самой природой человеческого общественного бытия, его местом в системе общественного воспроизводства, а следовательно, его местом в системе общественного присвоения самих условий жизни человека. Между индивидами как субъектами присвоения устанавливаются конкретно-всеобщие связи, конкретновсеобщие взаимозависимости. Только совокупность индивидов в системе присвоения своих условий жизни позволяет разрешать противоречие целого и части. Разрешение этого противоречия есть про- цесс формирования конкретно-всеобщей зависимости, увязывающей всю совокупность индивидов в единое целое. В этом едином органическом целом индивид уже не может быть мыслим как элемент системы, как часть системы, ибо часть есть элемент механического целого. Здесь индивид скорее мыслится как момент целого. Попытки разрешить это противоречие в самой жизни были обречены. Робинзонады как формы становления условий самодостаточности индивида явили свою обречённость и утопизм. Попытки же разрешить эти противоречия в самой теории могут привести разве лишь к появлению ещё одной, без особой необходимости рождённой утопии. Следовательно, индивид предстаёт как элемент целого, как его орган, а не часть. Можно утверждать, что его восприятие действительности изначально предопределено его абстрактным бытием. Его форма, способы присвоения, наконец, сам труд выступают «непосредственно как функция члена общественного организма» [14, с. 20].
Этому объективному, реальному целому мы противопоставили целое как конкретно-всеобщий целостный теоретический образ. Последний не есть копия, не есть аналогия. Он есть осознание индивидуумами этого объективного целого. Как пишет по этому поводу Т. Адорно, выраженное теорией целое содержится в анализируемом отдельном, а не возникает благодаря познающему субъекту. Само опосредование обоих есть содержательное, это опосредование общественной це- лостностью (Totalitet). Формально опосредование возможно в силу абстрактной закономерности самой целостности, тотальности обмена [15, с. 52].
Теоретический образ объективного целого не может восприниматься неким коллективным разумом, коллективным сознанием. Следовательно, абстрактный индивид, осознание которого предопределено его местом в системе общественного воспроизводства, его материальными интересами, не может «схватить» в мышлении этот целостный теоретический образ объективного, реального целого. Часть не несёт в себе всех элементов целостности. В конкретных отдельных индивидах нет той определённости, которая выступала носителем этого целого. Итогом мыслительной деятельности абстрактного индивида могут быть не более как теоретические абстракции этого объективного целого и абстракции теоретически целостного образа, то есть абстракции конкретно-всеобщего.
Из этого следует важное для последующих умозаключений суждение. Сформировать целостный теоретический образ как конкретно-всеобщее образование познающим субъектом становится теоретически недостижимым в силу самой абстрактно-индивидуальной природы индивида. Данное противоречие как в жизни, так и в познании, в диалектической логике разрешается преодолением обособленности индивидуумов друг от друга, усложнением всесторонней зави- симости, с одной стороны, и рассмотрением теоретического образа субъектами, которые представляют широкий спектр субъектов присвоения. Эта всесторонность рассмотрения позволит преодолеть «атоминизированность» и одновременно учесть внешнюю форму зависимости субъектов в сфере общественного присвоения. Эта всесторонняя зависимость, по сути, есть форма проявления своей противоречивости – независимости субъектов присвоения, подобно тому как, по Марксу, «частный труд становится формой своей противоположности, то есть трудом в непосредственно общественной форме» [16].
Однако отразиться исследователю в понятиях и категориях эта целостность как конкретно-всеобщая форма целостного теоретического образа может исключительно в умозрительных и «истощённых» абстракциях. Конкретно-всеобщий теоретический образ целостного мира экономики является в абстрактно-всеобщих понятиях. Абстрактно-человеческий труд абстрактного работника мог стать формой выявления конкретного труда. «Конкретно-всеобщее взаимодействие деталей» и предстает в виде абстрактно-всеобщего – в мистическом облике абстрактного объекта – стоимости. Попадая в сложившуюся историческую систему отношений, характерных для огромной машины определённого исторического способа производства, конкретный индивид начинает функционировать в ней именно в той ро- ли, которую она ему определила, а именно в роли «винтика», в роли стандартноабстрактной детали. Его деятельность становится в буквальном и точном смысле абстрактной, ущербно однобокой и схематичной. Именно потому, что его деятельность, как и деятельность каждого его соседа, сделалась тут реально-абстрактной деятельностью, она и оказалась накрепко привязанной к другой столь же абстрактной деятельности. Находясь захваченным в сети вещной зависимости, этот абстрактный индивид неизбежно попадает в сети иллюзий относительно своего собственного бытия.
В данной статье мы ни в коей мере не желаем умалить роль аналитических методов в познании. Мы желаем только подчеркнуть, что хотя и сам анализ как мысленное препарирование целостного объекта объективно необходим, отсутствие синтеза, который также лежит в сфере интеллигибельного, не может выработать достаточные основания для осознания не столько сущности, сколько смысла всего существующего для самого исследователя в любой сфере деятельности.
Список литературы Интеллигибельность познания с позиций учёного, судебного эксперта и инноватора
- Кафедра философии МАГУ//hpsy.ru/org/2143.htm (дата обращения: 18.01.2014).
- Войтов, А. Г. Философское основание теории. Осмысление проблемы: учеб. пособие/А. Г. Войтов. -М.: Дашков и Ко, 2004. -с.; sbiblio.com/BIBLIO/archive/voytov_filosof/02.aspx (дата обращения: 24.12.2013).
- Платон. Государство. Книга IV/Платон//psylib.ukrweb.net/books/plato01/26gos04.htm (дата обращения: 21.01.2014).
- Кант, И. Критика чистого разума/И. Кант//modernlib.ru/books/kant_immanuil/kritika_chistogo_razuma/read (дата обращения: 20.01.2014).
- Якушев, И. Б. Интеллигибельность И. Канта. Кантата/И. Б. Якушев//Независимый психиатрический журнал. 2010; www.npar.ru/journal/2010/4/yakushev.htm (дата обращения: 14.12.2013).
- Маритен, Ж. Избранное: Величие и нищета метафизики/Ж. Маритен. -М.: РОССПЭН, 2004; log-in.ru/books/velichie-i-nisheta-metafiziki-mariten-zhak-filosofiya (дата обращения: 22.01.2014).
- Плесовских, Ю. Г. Методология судебно-экспертного исследования и реализация её положений в криминалистической практике/Ю. Г. Плесовских. -М.: Юрист, 2012. -272 с.
- Останин, В. А. Шансы инновационного предпринимательства: проблемы методологии познания и оценки/В. А. Останин, Ю. В. Рожков//Сибирская финансовая школа. 2014. № 1. С. 32.
- Секлитова, Л. А. Философия Абсолюта/Л. А. Секлитова, Л. Л. Стрельникова. -М.: Амрита-Русь, 2013. -400 с.;//lawsuniverse.ru/absoluten/fa_013.htm (дата обращения: 22.01.2014).
- Шопенгауэр, А. Сборник произведений/А. Шопенгауэр; пер. с нем.; вступ. ст. и прим. И. С. Нарского; худ. обл. М. В. Драко. -Минск: Попурри, 1999. -464 с.
- Останин, В. А. Воля в структуре смысла/В. А. Останин. -Владивосток: ДВГУ, 2005. -148 с.
- Гёте, И. В. Фауст/И. В. Гёте//www.lib.ru/POEZIQ/GETE/faust_holod.txt (дата обращения: 05.02.2013).
- Поппер, К. Р. Логика и рост научного знания. Избр. работы/К. Р. Поппер; пер. с англ. -М.: Прогресс, 1983. -605 с.
- Маркс К., Энгельс Ф. Соч. -2-е изд. -М.: Госполитиздат, 1959. Т. 13. -183 с.
- Адорно, Т. В. Негативная диалектика/Т. В. Адорно; пер. с нем. Е. Л. Петренко. -М.: Научный мир, 2003. -374 с.
- Маркс К. Капитал//esperanto-mv.pp.ru/Marksismo/Kapital1/kapital1-01.html (дата обращения: 06.02.2014).