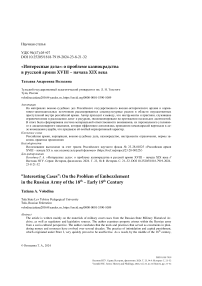"Интересные дела": о проблеме казнокрадства в русской армии XVIII - начала XIX века
Автор: Володина Т.А.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 8 т.23, 2024 года.
Бесплатный доступ
На материалах военно-судебных дел Российского государственного военно-исторического архива и нормативно-законодательных источников рассматриваются социокультурные реалии в области имущественных преступлений внутри российской армии. Автор приходит к выводу, что инструменты и практики, служившие ограничителями в расхищении денег и ресурсов, эволюционировали на протяжении нескольких десятилетий. В итоге была сформирована система материальной ответственности виновников, их персонального уголовного и дисциплинарного наказания, которая эффективно дополнялась принципом командирской вертикали в деле возмещения ущерба, что придавало ей особый корпоративный характер.
Российская армия, корпорация, военно-судебные дела, казнокрадство, инструменты ограничения, нормы законов, практики применения
Короткий адрес: https://sciup.org/147244820
IDR: 147244820 | УДК: 94(47).05+07 | DOI: 10.25205/1818-7919-2024-23-8-21-32
Текст научной статьи "Интересные дела": о проблеме казнокрадства в русской армии XVIII - начала XIX века
,
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-28-00325 «Российская армия XVIII – начала XX в. как социокультурный феномен»
,
С созданием регулярной армии и флота многократно выросли расходы казны на военные нужды. При Петре I, например, они достигали 60–75 % российского бюджета [Милюков, 1905, с. 140–142]. А в самом начале XIX в. на армию и флот приходилось около 50 % государственного бюджета, хотя в реальности в связи с военными действиями эта цифра зачастую была еще больше [Печерин, 1896, с. 8–11]. Получалось, что денежные потоки и ручейки пронизывали армию как кровеносные сосуды, а при такой циркуляции многократно возрастала, во-первых, возможность «отворить эту кровь» и направить ее в партикулярное русло, а во-вторых, необходимость пресечь деятельность подобных «цирюльников». Широко известен афоризм Карамзина, который выразил свое мнение о делах в России одним словом – «Крадут». Громадность военных расходов и вердикт Карамзина в совокупности могут на первый взгляд приводить нас к единственному выводу: армия должна была являться крупнейшим порталом казнокрадства и в силу этого снижать свою эффективность и боеспособность. Однако любая система, столкнувшись с проблемами, которые угрожают ее жизнедеятельности, оказывается вынужденной вырабатывать специфические инструменты для обеспечения своего функционирования. Эта сторона повседневной жизни армии, связанная с военным хозяйством и имущественными служебными преступлениями, не становилась предметом изучения в отечественной историографии. Только в последние годы начали появляться первые работы, посвященные этой проблематике [Андриайнен, 2017; Мацумура, 2019]. В данной статье мы попытаемся на основе архивных источников сформулировать гипотезу, касающуюся проблемы казнокрадства в армии.
Летом 1800 г. в Выборге случилось происшествие скандальное и неприятное. При проведении финансовой ревизии выяснилось, что в военной казне недостает огромной суммы. В фондах РГВИА сохранилось объемное дело, связанное с этим происшествием. Здесь нет протоколов допросов обвиняемых или свидетелей, оно представляет собою скорее экстракт следственных и судебных материалов 1. Внимательное изучение этого кейса позволяет раскрыть некоторые любопытные черты социокультурных реалий армейской жизни.
Деньги хранились в каменной кладовой, располагавшейся в Шлосской крепости (сегодня это Выборгский замок). Внутри стояли опечатанные и запертые на замок сундуки, в каждом из них хранились разные деньги: комиссариатские, провиантские, инженерные, полковые, артиллерийские. Окно в кладовой было забрано решеткой, а возле входной двери (тоже закрытой на замок и опечатанной) круглосуточно стоял часовой. Уйти с поста или заснуть он не мог. Согласно уставу на воротах и по всему пространству крепости были расставлены караульные и часовые, днем и ночью мимо этих постов с проверкой каждые полчаса ходили патрули. Вдобавок часовые постоянно перекликались между собой.
Дело было в духе Агаты Кристи. Из запертого помещения, куда не мог проникнуть никакой грабитель, исчезли деньги артиллерийского батальона, целых 30 тыс. руб. Сумма немалая. Для понимания масштаба цен укажем, что жалованье поручика в это время составляло вместе со столовыми деньгами 246 руб. в год [Миронов, 2016, с. 48].
Кража открылась неожиданно. Накануне Выборгский военный губернатор генерал-майор и князь Алексей Иванович Горчаков отдал приказание провести ревизию. Когда 2-го июля ревизоры принялись за проверку, выяснилось, что сундук с артиллерийскими деньгами пуст. О краже было немедленно доложено императору, тотчас по высочайшему повелению в Выборг для проведения расследования отправились генерал от артиллерии Корсаков и генерал-адъютант Лопухин. Они пришли к выводу, что украсть деньги мог только «свой» – тот, кто на законном основании имел право входить в хранилище. Непонятна была и дата кражи, это вскрылось всё 2 июля, а когда именно деньги исчезли – было неизвестно. В результате допроса караульных и дежурных офицеров удалось установить, что последний раз в каменную палату входили втроем плац-адъютант поручик Болонин, унтер-цейхвартер Сизов и инженер-капитан Бабурин, и было это 15 июня. Следователи выяснили, что Болонин пользовался полным доверием коменданта крепости Гессе, именно на него была возложена обязанность «вынимания» денег из кладовой. При этом нравы в крепости царили «домашние». Изъятый у плац-майора Филипса журнал караулов, похоже, заполнялся задним числом, во всяком случае сведения о том, кто стоял на часах возле денежной кладовой разнились с показаниями допрошенных. Ключ и печать от казначейского помещения Болонину в доме коменданта зачастую вручал денщик или некая «женщина, проживавшая у коменданта». Нарушением являлось и то, что Болонин, бывало, эти ключи по два-три дня держал у себя.
Вообще, по мере изучения этого архивного дела возникало смутное ощущение, что где-то эта смесь военно-бытовой патриархальности, незамысловатой простоты и некоторой расхлябанности нам уже встречалась. Ну да, Белогорская крепость в «Капитанской дочке».
Однако Выборг был гораздо крупнее и важнее, гораздо ближе к столице, а сумма украденных денег была слишком велика, так что следствие работало без промедления и проволочек. Уже 18 августа 1800 г. последовала высочайшая конфирмация по этому делу. Император приказал отставить от службы князя Горчакова, выключить его из состава генералитета, а похищенные деньги с него, Горчакова, взыскать. Болонина и Сизова было приказано лишить чинов и написать вечно в рядовые, а коменданта крепости Гессе за «слабое бережение казенного интереса» лишить чинов и дворянского достоинства 2.
Обратим на это внимание. Суд еще не ответил на вопрос: кто именно, как и когда украл деньги. Все причастные всё еще находятся под арестом. Однако Павел уже отдал приказ возместить ущерб, нанесенный «казенному интересу». Финансовая ответственность была возложена на главного командира, в ведении которого находилась Выборгская крепость.
Очевидно, покрыть такую сумму князю было нереально, а надеяться, что всё как-нибудь утрясется, не приходилось. Похоже, что несколько недель Горчакову пришлось буквально прятаться, недаром из Петербурга полетел циркуляр во все губернские правления с требованием сообщить в военное ведомство сведения: пребывает ли в пределах данной губернии князь Горчаков и находятся ли в ней принадлежащие ему имения. На имения велено было без проволочек наложить секвестр. Губернии рапортовали, что ни о князе, ни о его недвижимости ничего не знают 3.
Впрочем, уже осенью пропавшая сумма была внесена в артиллерийскую экспедицию, деньги за Горчакова заплатил тайный советник и кавалер Дмитрий Иванович Хвостов 4. Хвостов появился в этом деле не случайно. Оба – Хвостов и Горчаков – входили в тесный круг родства и свойства, который был связан с А. В. Суворовым [Виницкий, 2017, с. 57–67]. Кроме того, Хвостов был богат и пользовался благоволением Павла. Он мог быстро достать не- обходимую сумму и при случае замолвить перед императором словечко за шурина. Так или иначе, но Горчаков выскользнул из объятий следствия, оставив в руках казны большую сумму денег и поплатившись карьерой. Ущерб казне был возмещен, однако дело оставалось не раскрытым. Военно-судебная комиссия не считала, конечно, что замки на денежных сундуках собственноручно взламывал Выборгский военный губернатор.
Следствие уже начало подумывать о допросе с пристрастием Болонина и Сизова, «ибо без сего средства нет надежды, чтобы они добросовестно признались» 5. Получается, дворянина Болонина собирались пытать . Однако в этот момент в ситуацию вмешался генерал-аудитор князь Салагов. Дело в том, что из Выборга дошли настораживающие вести. Рядовой Михайлов разменял у маркитанта 25-рублевую ассигнацию. Для солдата такие деньги были «выше его состояния», и у следствия сразу же возникли подозрения.
Генерал-аудитор проявил несвойственную своему времени оперативную смекалку и приказал удовлетворить прошения об отпуске для проведывания родных, которые подали несколько «подозрительных» солдат этого полка. Одновременно в губернии, куда отправились эти солдаты, были направлены секретные предписания: взять меры к пристальному наблюдению за поведением и образом жизни «отпускников». В результате открылось всё. Попавшие под подозрение солдаты так или иначе «показали деньги»: тот внес 60 руб. в солдатскую артель, другой подарил четвертную своей жене, третий спрятал 200 руб. у квартирной хозяйки, а у рядового Михайлова в Симбирской губернии под полом его деревенской избы нашли закопанными 26 675 руб.
Открылся и способ кражи. Рядовой Никифоров, стоя на часах возле кладовой, заметил, что решетку в окне можно немного отогнуть (один прут был плохо закреплен в кладке), а железный ставень по летнему времени открыт. Мгновенно озаренный идеей, он отогнул решетку, разделся до исподнего и проскользнул в кладовую. В темноте на ощупь отыскал сундук, на котором был навесной замок, а пробой еле-еле держался в дереве. Взяв деньги, солдат выскользнул обратно. Всё это Никифоров проделал минут за двадцать, успев дать отклик соседнему часовому, который стоял от него неподалеку за углом коридора. К следующему проходу патруля Никифоров уже стоял в мундире и амуниции, а в патронной суме у него лежали 30 тыс. руб.
Всего было отыскано и возвращено в казну 28 297 руб. Графу Хвостову вернули деньги, которые он внес в казначейство за Горчакова. Теперь перед следствием встали несколько важнейших вопросов. Кто обязан возместить недостающие 1 703 руб.? Что делать с арестованными офицерами и унтерами, которые всё еще содержались под караулом, а некоторые уже были разжалованы в рядовые и лишены дворянского достоинства? Примечательно, что события 11 марта 1801 г. пришлись как раз на период следствия. Мы помним, как князь Горчаков по приказу Павла был вынужден спешно внести большую сумму в казну просто потому, что Выборгская крепость находилась в его подчинении. Создается впечатление, что главным правилом «интересных дел» (так называли судебные дела об ущербе казенному интересу) являлся принцип: ущерб должен быть возмещен! Возникает вопрос: был ли подобный алгоритм возмещения казенного ущерба проявлением сумасбродства Павла или общепринятой процедурой материальной ответственности командиров для минимизации казнокрадства в армии?
Происшествие в Выборге представляет доказательства в пользу второго варианта. В конце апреля 1801 г. молодой император утвердил новое решение суда. Солдаты, причастные к краже, поехали на каторгу в Сибирь. Болонин и Сизов за «претерпение» были произведены выше чином (капитан и цейхвартер) и получили годовое жалованье «не в зачет» в виде материальной компенсации. Коменданту Гессе было приказано вернуть чин и дворянство, а также отставить от службы с полным пенсионом. Всех остальных арестованных по делу было приказано освободить и вернуть на их должности.
Казалось бы, при молодом гуманном Александре справедливость восторжествовала. Но в «интересных делах» справедливость имела и другой приоритет – кто-то должен был покрыть казенный ущерб. Логика и иерархия возмещения были следующие. Сначала в возмещение шло имущество тех, кто был прямо причастен к преступлению. В данном случае таковое имущество отыскалось только у солдата Михайлова. В его родной деревне с публичного торга были проданы лошадь с подводою да ветхий хомут, а вырученные 22 руб. 66 коп. пошли в военное ведомство.
Остаток недостающей суммы по решению суда должны были возместить в равной мере:
-
• полковник Гильденшмит (артиллерийские деньги хранились в ветхом сундуке с хлипким замком). Правда, Гильденшмит во время следствия скончался, но этот долг переходил на его наследников. Три сына Гильденшмита служили уже подпоручиками в разных полках, вот они-то и обязаны были погашать убыток из своего кармана;
-
• отставной полковник Гессе (небрежное обращение с ключами от денежной кладовой);
-
• плац-майор Филипс (упущения в караульных и дежурных журналах, а также незакрытое ставнем окно кладовой).
А если, утверждалось в судебном решении, паче чаяния кто-то из этих офицеров будет заявлять о невозможности оплаты, то по предписанию комиссариатской экспедиции деньги должны были удерживаться из их жалованья и из пенсиона отставного коменданта.
Итак, мы можем выделить принципы решения «интересных дел». Главным приоритетом являлось возвращение денег в казну. Возмещение строилось по принципу «снизу вверх». Первым в очереди стоял непосредственный виновник преступления. Если жалованья или средств от распродажи его движимого и недвижимого имения (в случае его наличия) не доставало, то дальнейшие материальные санкции накладывались на его командиров снизу вверх пропорционально их жалованью.
Даже смерть не освобождала офицера от этого долга, он переходил на его наследников. Послабление могло произойти по случаю коронационных манифестов, когда милости изливались на подданных широкой рекой, одновременно давая вздохнуть судейским, увязавшим в трудных делах. Так и здесь, наследники Гильденшмита были освобождены от платежей по коронационному манифесту от 15 сентября 1801 г. – «Умерших, коих наследники по каким ни есть казенным недоимкам находятся, всех сих Всемилостивейше прощаем» (ПСЗ-I, 1830, т. 26, с. 789, № 20011). Майор Филипс и полковник Гессе должны были продолжать погашать казенный ущерб.
Выборгское дело не было каким-то исключением. Большинство «интересных дел» демонстрируют нам подобного рода решения. Приведем лишь несколько примеров. В октябре 1799 г. унтер-офицер Староингерманландского полка Зимин, подобрав ключ к полковому денежному ящику, украл 652 руб. артельных и церковных денег, прихватив еще из цейхгауза черного сукна да фламского полотна. После этого Зимин выписал себе фальшивый паспорт, «подписавши его под руку генерала Римского-Корсакова» и отправился в родные места, в г. Немиров 6. Всё это произошло в Австрии, во время военных действий против революционной Франции, когда войска второй коалиции вели бои и терпели поражение. Спустя несколько месяцев Зимин сам явился с повинной. Военный суд, как водилось по букве закона, приговорил его к виселице, и точно так же, как происходило на практике, в итоге ограничился шпицрутенами и разжалованием в рядовые. Однако признав, что «покраденных денег взыскать с него и надежды не предвидится», суд вынес вердикт: «как нижние чины, коим те деньги принадлежали, не должны их лишиться, то… иного не остается, как взыскать сию утрату с шефа полка, с командира полка и с ротного командира по пропорции жалованья» (генерал-майор граф Петр Разумовский, полковник Уланиус и капитан Барош) 7.
Сразу же во все губернии полетел циркуляр с запрещением совершать купчие и закладные на недвижимое имение упомянутых лиц. А вот дальше началось интересное. Дело в том, что в суматохе военных действий 1799 г. выяснить, кто именно командовал и отвечал за полковой обоз в момент кражи, было трудно. Кто-то был уже ранен, кто-то попал в плен к французам, полковник Уланиус еще не командовал полком в октябре 1799 г. Один только капитан Барош быстро и без пререканий внес в полковую казну свою долю компенсации – 63 руб. В 1802 г. генерал-майор Федор Штейнгель, уже успевший выйти в отставку, с удивлением и негодованием обнаружил, что по предписанию Военной коллегии комиссариатское ведомство стало удерживать из его военной пенсии деньги, вычет составил 422 руб. 8 Штейнгель представил квитанцию о сдаче / приемке полка, выданную 24 августа 1799 г. новым командиром полковником Нечаевым. В ней значилось, что полк к «бывшему в сем полку шефом господину генерал-майору и кавалеру Штейнгелю-второму претензий и взысканий не имеет» 9. В итоге необходимую сумму в 1805 г. погасил за своего сына (который к тому времени дослужился уже до генерал-майора) надворный советник Андрей Нечаев, а военное ведомство вернуло Штейнгелю 422 руб. 10 И только в сентябре 1805 г. командовавший к тому времени полком генерал граф Буксгевден рапортовал, что «должное количество денег им получено, и нижние чины ими удовольствованы» 11.
В этом кейсе необходимо отметить еще один штрих. Среди множества либеральных деклараций, объявленных 2 апреля 1801 г. новым императором, был и манифест «О сложении казенных взысканий», по которому прощались все казенные начеты, не превышающие 1 000 руб. (ПСЗ-I, 1830, т. 26, с. 604, № 19814). Так вот, сукно и полотно, украденные Зиминым, были оценены в 20 руб., и эта сумма была действительно «сложена», т. е. прощена. Но милости манифеста в практике военного ведомства отнюдь не распространялись на деньги, украденные непосредственно у полка 12. Логику здесь можно понять легко: деньги, выданные в полк, уже не являются собственно «государственными», они принадлежат военной части как некой корпорации. И император не мог росчерком пера лишать эту военную часть имущества и денег.
В 1793 г. был уличен в растрате церковных денег (на сумму 463 руб.) батальонный казначей поручик Егор Антонов 13. На публичные торги было выставлено всё его имущество (перины с подушками, платье и сапоги, серебряные часы и лаковый сундук). Впрочем, всё это принесло только 91 руб. 14 Виселица, которая полагалась поручику по силе воинских артикулов (арт. 186, 194) после подачи «мнений», как это было распространено в XVIII в., была заменена разжалованием в рядовые на полгода [Володина, 2023]. Однако по решению военного суда весь остаток суммы должен был возместить из своего кармана командир батальона секунд-майор Сибиряков.
Не менее яркий случай произошел в 1824 г., когда в Ставрополе сформировали сводный батальон из 8 рот разных полков и отправили его на Кавказскую линию. Командование батальоном вручили майору Звягольскому-Мельникову. Пока воинская часть двигалась на Кавказ, командир батальона развернул такую картежную игру, что офицеры проиграли в общей сложности 7,5 тыс. руб. Проиграли они все деньги – путевые, винно-порционные, артельные и собственно солдатские. Офицеры (13 чел.) были арестованы и отправлены под суд. Их имущество и недополученное жалование были конфискованы, однако это покрыло лишь малую долю растраченных денег. Впрочем, еще до окончания следствия генерал-адъютант барон Толь предложил главнокомандующему 1-й армией графу Остен-Сакену выход: взыскать недостающие деньги с полковых и дивизионных командиров «для скорейшего удовлетворения оными нижних чинов, ибо сии начальники при откомандировке рот от пол- ков должны были избрать благонадежных командиров» 15. В деле сохранился рапорт на имя Остен-Сакена от одного из арестованных офицеров: он жаловался на условия содержания во время следствия. По его словам, все – от командира полка Жилинского до унтеров караульной команды – относились к нему издевательски и всячески притесняли. Ответ командования был пренебрежительно холоден: прихотей арестованного караул выполнять и не должен. Вероятно, командование вполне понимало и разделяло чувства солдат и полковника Жилинского. В глазах нижних чинов растрата их денег была самым большим преступлением командира. А Жилинский, наряду с другими полковниками, по приговору суда вынужден был погашать растрату подчиненного за счет своего жалованья. Состояния полковник не имел, и поэтому просил командование вычитать у него не половину, а только треть из получаемого жалованья.
Жернова военной юстиции мололи медленно, но неуклонно. Даже по выходе в отставку можно было совершенно неожиданно оказаться должным казне. Так, в 1773 г. Нарвский карабинерный полк, который участвовал в военных действиях против Барской конфедерации, дислоцировался в Польше. Из сумм контрибуции полку выделили 1 000 золотых голландских червонцев, деньги были предназначены для ремонта лошадей. Деньги вез в Россию полковой корнет, но их у него похитил казак из конвоя князя Петра Михайловича Голицына, который отправился в Краков и лихо всё прогулял, прикинувшись шляхтичем. Корнета арестовали, казака схватили, но оба никак не могли компенсировать казенный убыток, с них взять было нечего 16.
Главный вопрос «интересного дела» – кто будет возмещать убытки – оставался без ответа. Военные решили действовать прямолинейно, командующий русскими войсками в Польше генерал А. И. Романус предложил Военной коллегии взыскать деньги с магистрата Кракова, ибо горожане, судя по материалам следствия, прекрасно понимали, что деньги у них проматывает русский дезертир. Но здесь взволновались дипломаты. Русский посланник в Польше барон Штакельберг урезонивал генерала: «Краковский городской судья нервничает из-за угрозы секвестра. Надо успокоить жителей и не вершить такой суд, не требовать от города зачет за нашего дезертира» 17. В итоге начет был наложен на командиров нарвских карабинеров полковника Карла фон Дикера и подполковника Степана Даниловича Жихарева. Тысячу червонцев посчитали по официальному курсу (2 руб. 70 коп.), и командиры должны были внести в казну каждый свою половину. Следствие указало, что прекрасно понимает мотивы перевозки наличности: командиры полка стремились обменять голландское золото на российские серебряные монеты не по официальному курсу, а по более выгодному, коммерческому, на территории Польши.
Пока суд да дело, Жихарев успел получить звание генерала, выйти в отставку и занять должность правителя Вятского наместничества. И вот там-то в 1780 г. его и настигло известие: из его жалованья половина будет вычитаться в пользу Кригс-комиссариата. Жихарев обратился к вице-президенту Военной коллегии Григорию Потемкину с жалобой, однако получил ответ, что «коллегия удовольствие ему о невзыскивании с него денег сделать не может» 18.
Правда, в таком подходе тоже скрывался подводный камень. Если у подсудимого не было имения, то военное правосудие было даже заинтересовано в продолжении его службы офицером, дабы было из чего производить вычеты. Так, в 1775 г. выяснилось, что командир батальона майор Брант растратил на собственные надобности более 1 300 руб. казенных денег: недостача выявилась как в вещах (галуны, пуговицы, кузнечный инструмент), так и в «жалованной сумме» (деньги для выплаты жалованья солдатам). Военная коллегия пребывала в затруднении: 47-летний лифляндец Андрей Брант в службе обретался с 1751 г. и воевал под Бухарестом в только что закончившейся войне, однако происходил он из обер-офицерских детей и был беспоместным. Если разжаловать майора в рядовые, то он никогда не погасит свой долг перед батальоном. Поэтому окончательный приговор звучал как прагматичный компромисс: возможную сумму взыскать с майора сразу, чина не лишать, лишь обойти один раз производством, а остаток долга погашать, вычитая две трети из его жалованья 19.
Итак, получалось, что возмещение казенного ущерба в армии носило коллективно-корпоративный характер. Материальная ответственность распространялась не только на непосредственного виновника, но и на его командиров. Причем, отвечать приходилось в первую очередь движимым имуществом, затем – жалованьем и недвижимостью. Как можно было ускользнуть от этих санкций? Передача имения жене или фиктивная продажа не спасали. Не помогала и отставка. Не спасала даже смерть.
Так, в 1820 г. генерал-майор Костин угодил под суд. При сдаче Новгородского кирасирского полка новому командиру Васильчикову выявилась огромная недостача на сумму 62 тыс. руб. Сразу же было вынесено решение об аресте недвижимости генерала, но Костин попытался вывести имущество, заложив поместья своей жене и нескольким знакомым. Вскоре после этого Костин умер, а суд вынес решение – описать имения генерала, а доходы с них (более 1 000 руб. в год) направлять на погашение долга перед Новгородским полком. Вдове с малолетними детьми была оставлена половина доходов 20. Ни ее прошения на высочайшее имя, ни ходатайства держателей закладных, ни даже апелляции к коронационному манифесту от 22 августа 1826 г. не возымели результата. Военное ведомство усмотрело в закладных на десятки тысяч рублей, подписанных летом 1820 г., лишь попытку «спрятать имущество». А касательно всемилостивейшего манифеста, который освобождал наследников умершего человека от уплаты его долгов казне, выдало вердикт: «Претензия сия принадлежит не прямо казне, а следует на пополнение неисправностей по Новгородскому кирасирскому полку… и ежели сложить оную, то помянутый полк придет в совершенное расстройство и упадок» 21.
Увильнуть от секвестра или конфискации можно было людям иного социального статуса. В 1770 г. вскрылось дело о недостаче провианта в Санкт-Петербургском магазине на 12 тыс. руб. 22 Следствие выяснило, что хищения проводились незатейливо и прямолинейно. При отпуске провианта, пока шли отгрузка и пересчет, жившие по соседству профосы просто оттаскивали толику кулей и мешков в кусты, а после всё это продавалось на сторону. Четыре года занимались этим унтеры и сержанты провиантского ведомства, которые служили при складе. За это время все они обзавелись домами, хотя жалованья получали по 40 руб. в год. Заведующий магазином капитан Игренев ничего не знал и не замечал, ему можно было вменить в вину лишь халатность и постоянное похмелье. Как только началось следствие, Военная коллегия обязала всех подпискою, «чтоб им движимого и недвижимого имения отнюдь не продавать и не закладывать» 23. Однако когда к провиантмейстерам пришли описывать имущество, то ничего не нашли. Лошади и коровы сведены со двора, сундуки пустые, в голых стенах торчали лишь гвозди, на которых ранее висели образа, картины и зеркала 24.
Воры были прогнаны сквозь строй и сосланы в каторжные работы в Финляндский гарнизон на три года. Капитан Игренев, «в уважение к его долговременной беспорочной службе и к участию в баталии при Гросс-Егерсдорфе», от положенного наказания был освобожден; его разжаловали в рядовые и перевели в Выборгский гарнизон. А вот с возмещением было труднее. У непосредственных воров предписывалось продать «имение и дворы, какие най- дут» 25. Только вот найти удалось немного. Следующим шел капитан Игренев, у него с публичного торга продали имущества на 1 200 руб. В очередь на компенсацию вставили и тех, кто покупал краденый провиант (кого удалось выявить). Ну а далее включался принцип «командирской ответственности». Всю остальную часть похищенного суд приговорил взыскать с руководства Главной провиантской канцелярии: генерал-провиантмейстера Николая Алексеевича Хомутова, бригадира Буткевича («что ныне в отставке генерал-поручиком»), полковников Мошкова и Балабана 26.
Итак, мы можем выделить среди инструментов, препятствующих казнокрадству в армии, соединение нескольких принципов: 1) восполнение ущерба за счет личных средств непосредственного виновника; 2) при недостатке или отсутствии средств у непосредственного виновника взыскание ущерба возлагалось на его прямых командиров пропорционально их жалованью. Можно назвать это принципом восходящей командирской вертикали. Складывалась эта система нескольких десятилетий. При создании регулярной армии законодатель как будто на ощупь, путем проб и ошибок отыскивал приемлемые инструменты для борьбы с казнокрадством в армии. Так, уже в 1696 г. драгуны-новобранцы подписывали поручную запись, некий армейский аналог круговой поруки (ПСЗ-I, 1830, т. 3, с. 272, № 1564). Несколько десятков человек (прообраз подразделения) должны были подписывать документ, в котором обещали «великому государю службу служить верно и над казной его великого государя дурна и хитрости никакой не учинить, лошадей и ружья и строевого платья не продавать и не терять» [Востоков, с. 18]. На обороте этого документа стояли имена поручителей и объяснение их ответственности за ручаемых. Коренное отличие от принципа командирской вертикали состояло в том, что ответственность возлагалась на отцов, дядьев и братьев рекрутов [Столетие военного министерства, 1902, с. 45]. Долго такой подход продержаться не мог в силу своей низкой эффективности и функциональности.
Однако и идея о материальной ответственности командиров тоже пробивала себе путь медленно, сначала в виде отдельных прецедентов. Яркое впечатление на армию должно было произвести решение военного суда по делу генерала Репнина за проигранное Головчинское сражение (1708 г.). Репнин был разжалован в рядовые, а брошенные на поле боя пушки и обозы он должен был возместить за свой счет. Сумма была столь велика, что почти равнялась всему его состоянию (Донесения…, 1886, с. 40).
В резолютивной части военно-судебных дел всегда встречаются отсылки к нормативной базе. Так, например, при ущербе казенному интересу в сентенции всегда упоминаются артикулы Военного устава (191, 192, 194) и Морского устава (п. 130), а они однозначно грозили преступнику виселицей. Впрочем, смертная казнь по «интересным делам» никогда не применялась. Прагматические соображения брали верх: какой толк был повесить каптенармуса, продавшего налево замшевые штаны и мундирные пуговицы, или майора, «употребившего на собственные надобности солдатское жалованье»? 27
Уже в 1718 г. мы видим попытку решить вопрос погашения ущерба более эффективно; за казенные недоимки и штрафные деньги предписывалось посылать виновных на галеры и «за ту работу зачитать им тех долговых денег на месяц по рублю на человека» (ПСЗ-I, 1830, т. 5, с. 530, № 3140). На первый взгляд получалось эффективно. Капрал Преображенского полка «за снос государственных денег» получал 3 года каторги, а подполковник «за похищение Его Царского Величества казны» отправлялся на галеры «до указу» [Розен-гейм, 1878, с. 363–364]. Однако здесь возникали другие проблемы. Если отправлять в Рогер-вик любого солдата, который пропил мундир и амуницию в кабаке, то возникала угроза треть армии «переквалифицировать» в каторжан. А офицер, присвоивший пару тысяч рублей, исходя из каторжных расценок (12 руб. в год), и до второго пришествия не возместил бы ущерб, нанесенный «казенному интересу».
На наш взгляд, основной корпус норм по регулированию «интересных дел» формировался на основе прагматизма и функциональной эффективности. Задача заключалась не столько в устрашении, сколько в создании системы по учету, контролю и возмещению ущерба. Процесс этот занял несколько десятилетий. В судебных делах подобного рода всегда упоминаются Рентмейстерская инструкция (1719 г.), Адмиралтейский регламент (1722 г.), Наказ воеводам, губернаторам и их товарищам (1728 г.) и «Провиантские регулы» (1758 г.).
Рентмейстеры при Петре являлись казначеями, приставленными к хранению наличных денег в губерниях. Они принимали налоги и сборы, выдавали наличность по ассигнациям или прямым распоряжениям воевод и губернаторов. Это касалось гражданского управления, однако в военно-судебных делах использовалась норма, сформулированная в этой инструкции: если рентмейстер «принятые деньги на свои или прочих людей потребы употребил, то надлежит ему издержанное вдвое возвратить, и при том фискальское взыскание на него учинено будет» (ПСЗ-I, 1830, т. 5, с. 662, № 3304). Последнее предполагало надзор фискалов при проведении описи и оценки движимого и недвижимого имения, поступавшего в казну (ПСЗ-I, 1830, т. 4, с. 855, № 2564). Принцип двукратного возмещения ущерба присутствовал в законодательстве и позже – в Наказе воеводам и губернаторам и в Провиантских регулах (ПСЗ-I, 1830, т. 8, с. 94–112, № 5333; Провиантские регулы…, 1792, с. 17). Впрочем, на практике в судебных делах окончательный приговор крайне редко содержал требование двойного возмещения. Прагматики-судьи, очевидно, понимали, что вернуть ворованное в одинарном размере уже будет неплохо.
В Адмиралтейском регламенте подробно прописывались принципы ведения учета денег и материалов: шнуровые книги, запись прихода и расхода, замки и ключи, подписи и печати, ассигнации и квитанции и т. д. и т. п. Там мы находим и норму продажи движимого имущества с публичного торга для возмещения ущерба, при этом вырученные деньги должны были поступать не просто в казну, а именно на счет Адмиралтейства (Гл. I, п. 53) (Регламент благочестивейшего государя…, 1764, с. 17). В «Провиантских регулах» уже четко фиксируется: если у казначея выявится недочет или убыток, и сам он возместить этот ущерб не сможет, то взыскание обращается на его командиров (Провиантские регулы…, 1792, с. 15, 31).
Следует подчеркнуть, что сложившаяся система предполагала некую градацию в уровнях казнокрадства и возмещения ущерба. Чем больше был чин у военного, тем бо́льшие возможности оказывались в его распоряжении, чтобы употребить армейские деньги на свои надобности. Однако тем большим он обладал потенциалом, на который могло быть обращено взыскание. Для того чтобы ускользнуть из-под взыскания, нужно было стать своего рода «маргиналом»: расстаться с офицерской службой, не получать военного пенсиона, не служить на штатской должности, не иметь дома, а в доме не иметь приличной обстановки и, наконец, не иметь поместья.
Принцип командирской вертикали при возмещении ущерба способствовал формированию корпоративной солидарности в отношении армейской казны. Можно встретить множество свидетельств снисходительно-терпимого и даже покровительственного отношения военных к отъему имущества у штатских, однако внутри армии постепенно возникал свой специфический взгляд. Капитан, употребивший ротные деньги на собственные нужды, вызывал гнев не только нижних чинов, но и своего командира-полковника, который понимал, что ему придется платить из своего кармана. Усилению этого корпоративного чувства способствовал и принцип возвращения похищенного «по принадлежности». Деньги, взятые у конкретного полка, должны были возвращаться не куда-то в Военную коллегию, а непосредственно в казну этого полка. Право высочайшего помилования распространялось на имперскую казну, но не на казну конкретной воинской части. Учитывая огромность военного бюджета, который циркулировал в виде наличных денег и материальных ресурсов, такие инструменты и практики не могли не появиться в нормативно-правовой базе и играли важную роль в жизни армии.
Список литературы "Интересные дела": о проблеме казнокрадства в русской армии XVIII - начала XIX века
- Андриайнен С. В. Смена командира части в системе военного хозяйства русской армии в первой половине XIX века // Научный диалог. 2017. № 4. С. 134-144. EDN: YLONXJ
- Виницкий И. Ю. Граф Сардинский: Дмитрий Хвостов и русская культура. М.: НЛО, 2017. 349 с.
- Володина Т. А. Спасительная сила "мнений": О практике военных судов в XVIII - начале XIX в. // Новый исторический вестник. 2023. № 3 (77). С. 6-25. EDN: WIFTBI
- Востоков А. А. О делах генерального двора.41 с.
- Мацумура Т. Экономические связи между офицерами и нижними чинами во 2-й армии в эпоху декабристов // Историческая память России и декабристы. 1825-2015: Сб. материалов Междунар. науч. конф. СПб.; Иркутск, 2019. С. 268-277.
- Милюков П. Н. Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII столетия и реформа Петра Великого. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1905. 892 с.
- Миронов Б. Н. Жалованье офицеров русской армии в XVIII - начале XX века // Военно-исторический журнал. 2016. № 2. С. 45-53. EDN: VUWFIX
- Печерин Я. И. Исторический обзор росписей государственных доходов и расходов с 1803 по 1843 год включительно. СПб.: Тип. Ю. Н. Эрлих, 1896. 220 с.
- Розенгейм М. П. Очерк истории военно-судных учреждений в России до кончины Петра Великого. СПб.: Тип. М. Эттингера, 1878. 377 с.
- Столетие военного министерства. СПб.: Тип. М. О. Вольф, 1902. Ч. 1, кн. 1, отд. 1: Главный штаб. Комплектование вооруженных сил в России до 1802 г. 496 с.