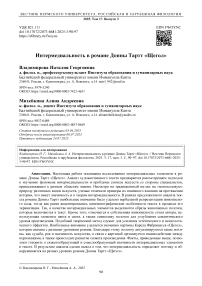Интермедиальность в романе Донны Тартт «Щегол»
Автор: Владимирова Н.Г., Михейкина А.А.
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 3 т.17, 2025 года.
Бесплатный доступ
Настоящая работа посвящена исследованию интермедиальных элементов в романе Донны Тартт «Щегол». Анализ художественного текста предваряется рассмотрением подходов к изучению феномена интермедиальности и проблемы синтеза искусств со стороны специалистов, принадлежащим к разным областям знания. Несмотря на традиционный взгляд на «монокодовую» природу различных видов искусств, ученые отмечали примеры их взаимного влияния на протяжении истории, что имеет значимость и в теории интермедиальности. В рамках предложенного анализа текста романа Донны Тартт наибольшее внимание было уделено вербальной репрезентации живописного кода, тогда как ранее акцентировались кинематографические особенности текста в процессе его экранизации. Так, в качестве интермедиальных элементов выделяются образы живописных полотен, которые включаются в текст. Кроме того, отмечается и собственная живописность стиля автора, использующая элементы цвета и света, а также символику полотен для углубления семантического уровня произведения. Подобный творческий метод служит для усиления эстетического и психологического эффектов. Наибольшее внимание уделяется значению картины Карела Фабрициуса «Щегол», которая связана с разными уровнями романа. Благодаря этому полотну актуализируются такие мотивы, как судьба, рок и значимость искусства, в связи с картиной организуется взаимодействие между персонажами, а также происходит развитие сюжета произведения. Факты, приведенные выше, позволяют говорить о сюжетообразующей и смыслообразующей значимости интермедиальных элементов в тексте. В результате анализа сделан вывод о том, что интермедиальность определяет поэтику и обнаруживается на разных уровнях романа Донны Тартт «Щегол».
Интермедиальность, полисемантика, живописный код, поэтика, живописность литературы
Короткий адрес: https://sciup.org/147252282
IDR: 147252282 | УДК: 821.111 | DOI: 10.17072/2073-6681-2025-3-90-97
Текст научной статьи Интермедиальность в романе Донны Тартт «Щегол»
Присутствие интермедиальных элементов в художественных произведениях представляется одной из характерных черт современной литературы. Однако взаимодействие различных видов искусств наблюдалось не только в текстах XX– XXI вв. Оно берет начало в «синкретизме» первобытных образцов художественного освоения мира [Веселовский 1989], что дало ученым основание для критического отношения к идеям о существовании искусств, использующих лишь один присущий им код. Ю. М. Лотман подчеркивал, что «зашифрованность многими кодами есть закон для подавляющего числа текстов культуры» [Лотман 1992: 143].
Исследователи отмечают тенденцию к сближению искусств в различные исторические эпохи. Например, М. В. Алпатов подробно рассматривает архитектуру и живопись во времена Ренессанса как опыт синтеза, определяющего художественное мышление того периода [Алпатов 1936]. И. В. Кириенко и О. В. Перич подчеркивают, что эпоху барокко определяет связь искусства с другими сферами человеческой деятельности, например с риторикой и медициной. Примечательной чертой барочной культуры выступает и «появление синтетических жанров» [Кириенко, Перич 2021: 188–189]. Взаимодействие кодов литературы и живописи рассматривалось и в эпоху романтизма. Ученые делают акцент на активном развитии идеи синтеза искусств, их взаимном проникновении: «У романтиков часто встречаются замечания о музыкальности стиха, о певучести линий рисунка, о живописности музыки и цветовых аккордах в живописи, о картинности поэтических описаний и т. п.» [Никифорова 2015: 72]. Наиболее часто теоретики в эпоху романтизма обращались к музыке, обнаруживая ее присутствие во всех видах искусства и других сферах. Тем не менее использование и функционирование различных художественных языков в рамках одного текста, а также эксперименты с перекодировкой стали определяющими характеристиками литературы XX–XXI вв. (см.: [Владимирова 2016: 115]).
Феномен интермедиальности в литературе, связанный с функционированием разных языков искусства в тексте одного произведения, привлек большое внимание литературоведов, культурологов, специалистов по семиотике, философов. Это явление получило осмысление в многочисленных исследованиях [Суханова 2015; Хамино-ва, Зильберман 2014].
Рассматривая сущность феномена интермеди-альности, И. Раевски подчеркивает тот факт, что «исследования взаимного перехода искусств имеют давнюю традицию» [Rajewsky 2005: 44], благодаря этому делается следующий вывод: «аспекты, которые обычно рассматриваются как “интермедиальность”, не являются принципиально новыми» [ibid.: 44]. В работе исследовательницы также приводится тезис: проблемное поле, связанное с осмыслением вышеупомянутого феномена, расширяется.
С. Петерссон c соавторами утверждают, что разнообразие «в понимании интермедиальности позволяет каждому отдельному исследователю уточнить её сущность в соответствии с конкретными требованиями, методами и изучаемыми вопросами» [Petersson et al. 2018: 1–2]. При этом наиболее успешной тактикой исследования концепции интермедиальности, по мнению ученых, является «объединение разных перспектив, добавление конкретных методов и материалов, а также эстетический и медиаисторический подходы» [ibid.: 2].
Л. Лувель пишет, что термин «интермедиаль-ность» позволяет сделать акцент на «медиуме, его материальности как искусства» [Louvel 2018: 39]. В работе анализируются как репрезентативные черты, так и вариации взаимодействия различных средств выражения, принципиальные для изучения интермедиальной поэтики в литературе.
И. А. Суханова высказала важную мысль о разграничении парциального и миметического видов интермедиальности, основанных на аналогичных формах интертекстуальности, выделенных В. П. Москвиным. Парциальная интермеди-альность сопряжена с вербализацией в художественном тексте «элемента картины, скульптуры, фрески, иконы и т. д.» [Суханова 2015: 119], в то время как миметическая интермедиальность связана с ситуациями, в которых «словесный текст имитирует <…> приемы построения образов произведения изобразительного искусства» [там же: 120]. Приведенное утверждение позволяет говорить о разных векторах актуализации интермедиального кода в литературе.
Роман Донны Тартт «Щегол» (“The Goldfinch”, 2013) представляется нам одним из образцов прозы, где интермедиальный код присутствует на всех уровнях и в разнообразных формах поэтики произведения. Эта особенность привлекла внимание ряда ученых. Так, Н. В. Столбова и В. Н. Железняк предлагают философский обзор «новой реальности», создающейся благодаря влиянию картины на разные уровни романа Д. Тартт [Столбова, Железняк 2017: 74–81]. Отчасти схожий вектор мысли представлен в работе Е. Н. Ищенко и М. К. Поповой, которые рассматривают экзистенциальные смыслы, а также раскрывают темы отношений искусства и общества, искусства и личности [Ищенко, Попова 2016: 66–73]. Кроме того, был изучен и кинематографический код романа. Так, В. О. Прохорова исследует аллюзии на кино в тексте Д. Тартт [Прохорова 2020: 166–171], что имеет ценность для выявления многочисленных семантических слоев, присутствующих в произведении.
Однако живописный код в романе как структурообразующее начало не получил детального исследования. Элементы живописи в тексте романа фигурируют как предмет изображения. В такой функции выступает картина Франса Халь-са «Урок анатомии», а название романа (одна из сильных позиций текста) отсылает читателя к занимающему центральное место в повествовании шедевру Карела Фабрициуса, голландского художника XVII в. Поэтика произведения определяется как включением в него описаний художественных артефактов, так и живописностью стиля Донны Тартт.
Изображение «Щегол» Карела Фабрициуса появляется в начале повествования, когда Тео и его мама Одри по воле случая оказываются в Метро-политен-музее на выставке голландской живописи. Эпизод отличается семантической наполненностью, которая создается благодаря как последовательному описанию картин, представленных на выставке, так и происходящим на ней событиям.
Живописные шедевры, которые включены в текст Донны Тартт, жанрово разнообразны, они создают эффект наполненности внешне эклектического пространства: «…сначала я подумал, что мы оказались не в том зале. Стены подсвечивались теплой, тусклой дымкой роскоши, типичной мягкостью старины. Но затем все это распалось на ясность, цвет и чистый северный свет, гигантские и миниатюрные портреты, интерьеры, натюрморты…»1 [Tartt 2013: 28]. Живописные артефакты, являясь интермедиальным предметом описания, выполняют функцию организации пространства в тексте романа. Примечателен и тот факт, что экспонаты представляются как живой элемент былых времен, создавая эффект схождения настоящего и будущего в одной точке пространства.
Картины, на которых акцентируется внимание героев на выставке, обогащают символический уровень романа. В качестве примера можно привести «Натюрморт с тремя плодами мушмулы и бабочкой» Адриана Коорта. Описание позволяет идентифицировать это произведение, поскольку нарратор отмечает наиболее узнаваемые детали: «белая бабочка на темном фоне, парящая над красными фруктами» [ibid.: 136]. Гранат, плоды которого присутствуют на картине, часто встречается в мировом искусстве. Благодаря «сквоз- ному характеру» образа упомянутого плода его символика и семантика постоянно обогащались. В религиозных текстах и сюжетах этот фрукт мог быть символом грехопадения, мироздания, смерти и вечной жизни. На наш взгляд, ценным является замечание Э. Ф. Шафранской и ее коллег о корреляции образа граната с «эсхатологическими мотивами», например, таким как «ознаменование грядущей катастрофы» [Шафранская, Гарипова, Кешфидинов 2024: 195].
Другим важным элементом на вышеупомянутом полотне представляется бабочка. Как и гранат, это образ, имеющий полисемантический характер. С ним традиционно коррелирует семантика души, вспомним, что греческое слово psykhē обозначало и «душу», и «бабочку» [Hanks, Hardcastle, Hodges 2019]. Кроме того, он вбирает в себя и семантику смерти и воскресения [Генерозова 2017], которые связывались с бабочкой в разные исторические периоды.
Вербальное воспроизведение небольшого натюрморта А. Кроота придает описанию окружающей обстановки предметность. Одновременно символика живописного и литературного кодов сближается, знаменуя те события, которые непосредственно влияют на всех действующих лиц, пришедших на выставку.
Символы конца актуализируются и включением других натюрмортов, не специфицированных, однако ассоциативно отсылающих к множеству произведений. Упоминание дичи на картинах содержит намек на полотна Франса Снейдерса, прославившегося благодаря изображению натюрмортов с животными.
Элемент барочной художественной символики связан и с «Портретом молодого человека с черепом» Франса Хальса: «Мы провели некоторое время перед изображением юноши, держащего череп, работы Хальса» [Tartt 2013: 144]. Примечательно, что первая глава романа повторяет название вышеупомянутой работы, вследствие чего парциальный интермедиальный элемент получает актуализацию как на структурном, так и на сюжетном уровне. Значение быстротечности и бренности жизни, связанное с этой картиной, становится лейтмотивом всей главы.
Многочисленным мрачным полотнам противопоставляется небольшая картина Карела Фабрициуса «Щегол»: «Это было прямое и деловое маленькое существо, и в нем не было ничего сентиментального <…> его яркость, настороженность, компактность <…> заставили меня вспомнить детские фотографии моей матери, которые я когда-то видел» [ibid: 161–162]. Маленький персонаж полотна описывается живо, составляя антитезу большей части изображаемых в эпизоде работ. Так, темным и черным оттенкам противо- поставляется «чистый и прозрачный дневной свет» [ibid.: 160]. Следующая цитата Одри также способствует усилению оформившейся оппозиции: «Невероятно завораживающая картина, такая простая. По-настоящему нежная, будто манит постоять поближе, правда? Куча мертвых фазанов, а здесь – миниатюрное живое существо» [ibid.: 168– 169]. Примечательно, что образ золотой птицы полисемантичен в мировой культуре. Например, щегол – олицетворение защиты, любви, радости и преданности, а в греческой мифологии – аполло-нического начала – чистоты и свободы. Несомненно, в словарях символов также присутствует ряд значений, связанных с христианской символикой (см.: [Тресиддер]), однако изучение этого романа в подобном ключе, на наш взгляд, требует отдельного исследования.
Значение этого художественного артефакта подключает интермедиальный (живописный) код и определяет особенности поэтики света (и цвета) в тексте. В частности, речь идет о противопоставлении света и тьмы, приобретающем характер сквозной оппозиции в романе, находящей воплощение как в рамках интермедиальных элементов, так и на уровне описаний пейзажей и интерьеров, внешних и внутренних характеристик героев и т. д.
Примечательной представляется и семантика места, где происходит трагическое знакомство Тео с картиной «Щегол». Пространственный топос музея приобретает в романе особенное значение.
Семантика музея осмыслялась рядом философов, музееведов, культурологов на протяжении истории существования подобных учреждений культуры и искусства. А. Н. Белаш, рассматривая разные подходы, делает вывод о том, что «музейный топос» понимается «как пространство верификации и репрезентации художественных произведений, а также места реализации разнообразных стратегий взаимодействия художника и зрителя» [Белаш 2018: 13].
Музей, который изображает Донна Тартт, выполняет аналогичные функции в тексте романа. На выставке Тео не только знакомится с образцами нидерландской живописи, но и обретает некую связь с художниками. Например, своеобразное «сближение» с Карелом Фабрициусом происходит и в результате вынужденной «кражи» картины, и определяется обстоятельствами (воспроизведение эпизода, где изображается взрыв). Элемент собственной биографии художника усиливается, повторяясь в жизни протагониста романа (К. Фабрициус погиб в 1654 г. при взрыве пороховых складов в Делфте). Во время этого события были уничтожены практически все картины художника, что сообщает уникаль- ную ценность уцелевшему полотну, а бо́льшая часть города – разрушена.
Взрыв в Метрополитен-музее аналогично приводит к драматическим последствиям. Тео, которому чудом удалось уцелеть в этом катастрофическом происшествии, теряет мать и весь свой мир: «…мне казалось, что смотрю на солоноватые обломки судна, освещенные таким ярким, таким тоскливым и пустым светом, что я едва мог вспомнить, был ли мир вообще когда-либо жив» [Tartt 2013: 581–582]. Размышления о прошлом во внутренних монологах главного героя часто маркируют психологический и фактический перелом в его жизни. Можно высказать предположение о том, что музей становится и местом, где происходит метафорический обряд инициации, предполагающий уход от старого «я».
Живописный код актуализируется не только в связи с вербальным воспроизведением полотен художников, но и вследствие аллюзивной корреляции с их биографией. В романе сам герой напрямую говорит об этой трагической параллели, читая о Фабрициусе: «…короткие библиотечные записи постоянно притягивали меня упоминанием элемента случайности: наши не связанные друг с другом катастрофы сходятся в одной и той же невидимой точке…» [ibid.: 1913]. Благодаря этому происходит расширение смыслового пространства текста, и он приобретает символическую проекцию. Интермедиальный элемент служит для актуализации мотивов судьбы и рока. Смыслообразующая функция интер-медиальности подчеркивается в ряде исследований; например, А. Н. Набиуллина отмечает, что использование кодов разных искусств в произведении вводит в текст «дополнительные смыслы и мотивы» [Набиуллина 2023: 451].
После событий в музее внутренняя жизнь Тео была связана с картиной «Щегол». На протяжении всего повествования страх и чувство вины из-за вынужденной «кражи» предмета искусства не покидают героя: «Даже заперев дверь, я не решался развернуть бумагу, опасаясь, что они поднимутся наверх, но все же желание взглянуть на нее было непреодолимым...» [Tartt 2013: 1406]. По мере развития сюжета панические настроения Теодора усугубляются. Он часто читает новости об исчезнувших предметах искусства, усиливая собственные переживания: «Я был так напуган, увидев неожиданные слова “Интерпол” и “разыскивается”, что запаниковал и полностью отключил компьютер» [ibid.: 1904– 1905]. Однако протагонист не может расстаться с картиной, во многом из-за ассоциации этого произведения с самым близким для него человеком и своеобразной связи с его предыдущей жизнью. Уже в первом упоминании «Щегла» присутствует сравнение с мамой главного героя.
Интермедиальные включения в рамках литературного произведения обладают значительным потенциалом для придания дополнительных черт персонажам. В. О. Чуканцова, характеризуя семантическую ценность детали в художественном тексте, пишет: «Музыка и живопись привносят свои “детали” и приемы в литературу, расширяя <…> ее возможности» [Чуканцова 2009: 142]. В романе Донны Тартт живописный код используется и для психологизации. Примечательно, что с миниатюрным пернатым героем картины сравнивается и антиквар Велти на фотографии: «Маленький, с носиком, словно клювик, похожий на птицу мальчик улыбается, сидя за пианино…» [Tartt 2013: 4793]. Антиквар становится и связующим звеном между Теодором и полотном Фабрициуса. В частности, благодаря тому, что он буквально заставляет юношу забрать «Щегла» из музея: «Забери картину…» [ibid.: 236]. Это действие не только является причиной мук совести у главного героя, но и получает значение импульса, влияющего на развитие полного перипетий сюжета. Необходимо отметить, что событие, произошедшее в завязке, сравнимо с кульминацией по силе эмоционального накала, что позволяет нам наблюдать встречу троих героев, чья судьба очень тесно связана с полотном «Щегол».
Одри Декер говорит, что «это была первая картина, в которую она по-настоящему влюбилась» [ibid.: 158]. Для Велти Блэквелла полотно Фабрициуса также было частицей жизни – зная изображение золотой птицы с детства, он повел племянницу на выставку из-за этого произведения: «Думаешь, какую картину он хотел показать [Пип-пе]?» [ibid.: 4802]. В свою очередь, несмотря на то что Тео не знал о «Щегле» до выставки, он также привязывается к картине, ссылаясь на нее как на «свою», думая или говоря о ней.
Шедевр Карела Фабрициуса представляет собой интермедиальный элемент, который не только служит для обогащения семантического уровня произведения, но и связывает персонажей друг с другом. С одной стороны, благодаря «Щеглу» они оказываются в рамках одного пространства, вследствие чего их судьбы переплетаются. С другой стороны, через отношение к картине раскрываются некоторые черты их характеров, а также поднимается тема искусства и предметов, становящихся судьбоносными в жизни людей.
Таким образом, живописное полотно и образ щегла становятся полифункциональным интерме-диально-живописным смысловым и художественным центром романа, формируя поэтологический симбиоз биографических, событийных, образных и художественно-выразительных черт произведе- ния, его художественной многоплановости и стилевой уникальности. Парциальные и интермедиальные включения получают актуализацию на смысловом, структурном и сюжетном уровнях. Образ щегла символизируется, сообщая символическую проекцию роману как художественному целому. Для читателя значимой является связанная с ним семантика места: музейный топос как пространство репрезентации искусства и одновременно пространство взаимодействия зрителя и художника, а в системе произведения – читателя и текста. Возникающее интермедиальное взаимодействие с образцами нидерландской живописи не только способствует смыслообразованию художественного целого романа, но и аллюзивно коррелирует с биографией его персонажей, создавая богатство художественных проекций индивидуализированного образа в мир искусства, а также смысловые, поэтологические связи персонажа с художественным целым произведения.
Примечание
-
1 Здесь и далее цитаты в переводе авторов статьи.