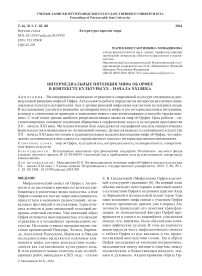Интермедиальные интенции мифа об Орфее в контексте культуры XX - начала XXI века
Автор: Меньщикова М.К.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Литературы народов мира
Статья в выпуске: 1 т.46, 2024 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются нашедшие отражение в современной культуре тенденции аудио-визуальной рецепции мифа об Орфее. Актуальность работы определяется интересом различных национальных культур и исторических эпох к древнегреческой мифологии как системе культурных кодов. В исследовании уделяется внимание поливариантности мифа и его интермедиальным интенциям, которые в совокупности приводят к появлению нового типа коммуникации и способа «высказывания». С этой точки зрения наиболее репрезентативным является миф об Орфее. Цель работы - систематизировать основные тенденции обращения к «орфическому коду» в культурном пространстве XX - начала XXI века. Методологическая база определяется спецификой анализа синкретических форм искусства и выявлением их поликодовой основы. Делаются выводы о сложившемся в культуре XX - начала XXI века тяготении к аудиовизуальным моделям воплощения мифа об Орфее, что определено заложенными в нем самом и в «прецедентных текстах» интермедиальными интенциями.
Миф об орфее, культурный код, интермедиальность, поливариантность, синкретические формы искусства
Короткий адрес: https://sciup.org/147242935
IDR: 147242935 | DOI: 10.15393/uchz.art.2024.995
Текст научной статьи Интермедиальные интенции мифа об Орфее в контексте культуры XX - начала XXI века
Мифологический сюжет об Орфее с Античности и до настоящего времени остается востребованным в различных видах искусства, а имя Орфея становится частью мира повседневности, присутствуя в названиях радиостанций, музыкальных фестивалей и коллективов, туристических агентств и даже автономной голосовой вопросно-ответной системы. Уже античный образ Орфея отличается многогранностью, что находит отражение и в позднейших произведениях искусства. На основе ставших прецедентными текстами произведений Пиндара, Эсхила, Еврипида, Аполлония Родосского, Вергилия и Овидия исследователями выделяются ключевые компоненты мифа, которые впоследствии осмысляются как составляющие культурного кода. В этом контексте можно отметить одну из обобщающих работ, вышедшую в 2021 году, – статью
Е. В. Гнездиловой «Мифологема Орфея в античной культурной традиции» [6]. На первый план обычно выходит всем хорошо известный сюжет о путешествии Орфея в подземное царство Аида за Эвридикой и музыкальный талант героя. Еще один компонент мифа связан с участием Орфея в походе аргонавтов, причем уже в период Античности происходит его заметная трансформация: из эпизодической фигуры Орфей превращается в одного из важнейших участников похода, что, вероятно, было обусловлено влиянием орфических культов. В этом же контексте акцентируется часть мифологического сюжета о гибели Орфея от рук вакханок и его пророчествующей впоследствии голове. Так в образе Орфея закладывается интенция пограничного, находящегося между жизнью и смертью, между человеческим и божественным началом, земным и духовным. Акцентирование образа Ор- фея как медиатора определяет и ряд его современных трансформаций в театральной практике, о которых речь пойдет ниже. Двойственность образа Орфея предполагает и соединение дионисийского (миф о первом воплощении Диониса в образе Загрея, растерзанного титанами и возрожденного затем к новой жизни) и аполлони-ческого начал (дар пророчества, игра на лире, по одной из версий мифа Орфей – сын Аполлона). Орфическая традиция придала особый сакральный смысл поиску Орфеем Эвридики, увидев в нем стремление к обретению целостности души. Неслучайно сюжетным дополнением в ряде интерпретаций мифа об Орфее идет параллельный сюжет об Амуре и Психее, поскольку орфики и затем пифагорейцы считали, что человеческая душа двупола (женская половина – Психея, мужская – Эрот). Этот интерес к психологическому началу, к собственной раздвоенности души и поиску цельности становится центральным в многочисленных рецепциях мифа об Орфее в XX – начале XXI века.
***
Для театральной практики Нового и Новейшего времени в образе Орфея на первый план выступает его качество музыканта, певца, что фактически стало ключевой точкой для появления жанра оперы, которая начинается именно с музыкального воплощения сюжета об Орфее и Эвридике: в начале XVII века композитор Я. Пери создает «Эвридику», а затем К. Монтеверди – «Орфея». Этот факт оказывается вполне закономерным, поскольку древнегреческий театр был синтезом словесного, аудиального и визуального начал. Здесь же стоит подчеркнуть и особую связь мифа и музыки – к этому вопросу уже неоднократно обращались в классической и современной гу-манитаристике философы, искусствоведы, филологи, достаточно упомянуть фундаментальные работы Ф. Шеллинга [14], Р. Вагнера [5], Ф. Ницше [11], К. Леви-Стросса [7], А. Ф. Лосева [8] и многих других. Таким образом, первой интермедиальной интенцией стало появление, по сути, нового вида искусства и нового способа коммуникации автора и зрителя в театральной практике. Многочисленные оперные варианты Орфея отражали национальные особенности, культурную специфику своего времени, исторические реалии и условия создания того или иного произведения, в этом плане показательны и первые произведения Пери и Монтеверди, изменение сюжета мифа, введение новых персонажей.
Помимо вышеназванных появились и другие оперные интерпретации сюжета об Орфее: оперы С. Ланди (первое представление – 1619 год, в 2013 году – реконструкция в Малом зале Санкт-Петербургской филармонии), Л. Росси (1647), А. Сарторио (1672), Ф. Дж. Бертони (1776), И. Г. Наумана (1786, исполнена в 1951), Й. Гайдна «Душа философа, или Орфей и Эвридика» (1771, впервые поставлена в 1951) и, конечно, одна из самых успешных и востребованных в современном культурном пространстве – опера К. В. Глюка «Орфей и Эвридика», две редакции которой, итальянская и французская, датируются 1762 и 1774 годами. Позднее появились музыкальные интерпретации Е. Фомина (1792), Ж. Оффенбаха (оперетта «Орфей в аду», 1858), Э. Кшене-ка (1923), Д. Мийо («Несчастья Орфея», 1926), Х. Бертуистла («Маска Орфея», 1986) [2], [12] и др. Однако одним из самых ранних оперных произведений об Орфее, которое неизменно присутствует в современной театральной практике, остается «Орфей и Эвридика» К. В. Глюка (например, сиднейская постановка 1994 года, постановки Болонского оперного театра (Давид Ала-нья, 2008 год), Барочного театра Крумловского замка (Онджей Гавелка, 2014 год), чикагская постановка (Джон Ноймайер, 2017), интерпретация Нижегородского театра оперы и балета 2022 года и др.). Так, можно отметить, что на основе античного мифологического сюжета создаются новые прецедентные произведения, которые осмысляются современными художниками и музыкантами, поэтому вторая интермедиальная интенция может считаться опосредованной – это уже не только новая форма высказывания и коммуникация со зрителем, но и диалог с предшествующими интерпретациями. В качестве примера отметим две современные постановки оперы К. В. Глюка как наиболее контрастные по своему визуальному воплощению.
Первая – фильм-опера 2014 года режиссера Онджея Гавелки, где партию Орфея исполняет контртенор Беджун Мета, представление проходит в здании Барочного театра, частично на сцене, частично в театральных кулуарах, а при постановке использовались подлинные декорации XVII–XVIII веков. Костюмы исполнителей были исторически стилизованы и в основном отсылали ко времени первых постановок оперы, а соотнесенность с древнегреческим антуражем подчеркивали привычные современному сознанию стереотипные образы лиры, лавровых венков, хитонов. Архетипическая двойственность образа Орфея позволила режиссеру создать и пограничную атмосферу: с одной стороны, стремление к аутентичности, с другой – акцентирование психологической составляющей, что прекрасно демонстрирует сцена с Фуриями, которые пуга- ют Орфея ужасными видениями. Орфей видит двойников себя и Эвридики, которые ссорятся, потому что Орфей занят творчеством и не обращает на жену внимания, она пытается отобрать у него из рук лиру, он отталкивает ее, Эвридика падает и умирает, на руках Орфея кровь, «рифмующаяся» по цвету с платьем Эвридики и хламидой на его плечах. Это видение циклизируется, что усугубляет страдания героя. Однако можно отметить, что в контексте современной культуры в данной сценической интерпретации актуализируется и игровая составляющая: явно подчеркивается пространство сцены, закулисья, зрительного зала, иногда Орфей смотрит на действие как бы со стороны или вообще, как в финале, из зрительного зала. Орфей и Эвридика меняются местами, у лиры порваны струны, Орфей в одиночестве уходит по коридору из зала, Эври-дика, напротив, находится на сцене, окруженная славой и поклонниками. Таким образом, подчеркивается в постановке диссонанс пограничного состояния и получение Орфеем забвения вместо цельности души, поскольку вместе могут быть только тени героев.
Вторая современная интерпретация оперы К. В. Глюка – версия Нижегородского государственного академического театра оперы и балета им. А. С. Пушкина в новом культурном пространстве «Пакгаузы на Стрелке». В постановке были использованы исторические музыкальные инструменты, режиссерами-постановщиками обозначено стремление к аутентичному музыкальному звучанию, которому, подчеркивая переходность пространства, состояния, образов, противопоставляется интермедиальное оформление спектакля, лишающее сцену всего бытового, потому что, как отмечала в интервью Мария Литвинова, образ Орфея должен быть воплощением чистого искусства, а исполнительница партии Орфея Дарья Телятникова подчеркивала, что в него вложена «максимальная доля трагиз-ма»1. Подробный анализ нижегородской постановки оперы К. В. Глюка представлен в рецензии В. М. Деменюк «Метаморфозы Орфея: трансформация мифа на сцене Нижегородского государственного академического театра оперы и балета им. А. С. Пушкина»2, поэтому отметим только особенность данной интерпретации, связанную с идеей переворачивания, где катабасис заменяется анабасисом. Также следует подчеркнуть, что постановщики стремятся выстроить более сложную систему отсылок к предшествующей традиции, что отчасти не дает осуществления полноценной коммуникации с современным зрителем: так, в рассматриваемой версии первая сцена, представленная как элемент театра теней, воспроизводит действия, напоминающие процесс мумификации и помещение органов умершего в канопы, то есть подготовку к переходу в загробную жизнь. Итак, зрителю оказывается недостаточным знать события мифа об Орфее и Эвридике и даже либретто оперы Глюка, для полноценного осмысления нужно вспомнить тот вариант мифа, где Орфей действительно странствует по Египту, получает там знания по музыкальному искусству, привозит в Грецию новые религиозно-мистические учения, в том числе касающиеся души человека, то есть один из компонентов орфического культа. Важными в данном контексте оказываются и представления египтян о странствии души в загробном мире, преодоление ею препятствий и обретение целостности и вечной жизни, что и определяет приоритет анабасиса / восхождения над катабасисом / нисхождением. В отличие от рассмотренной выше исторически стилизованной постановки здесь хронологическая маркированность нивелирована особенно за счет костюмов, которые мно-гоплановы и полифоничны, напоминают и узорные стены самих пакгаузов, и кости скелетов, и барочные формы, и ажурное вырезание из бумаги (киригами). Эта полифоничность во многом приводила к сложности декодирования художественного целого, но, безусловно, имела суггестивную привлекательность даже для неподготовленного зрителя.
Следующая интермедиальная интенция мифа об Орфее определяет возможность развертывания эстетического культурного кода. Здесь наиболее показательной будет эпоха начала XX века. Образ Орфея занимает мысли Р. М. Рильке, М. Цветаевой, Вяч. Иванова, В. Брюсова и других [1], реконструируется опера К. Монтеверди сначала Дж. Малипьеро, а затем К. Орфом. Э. Кшенек (Кренек) на базе текста О. Кокошки создает свою оперу «Орфей и Эвридика» (1923), которую можно считать экспрессионистским вариантом. Душевная раздвоенность, разлад и диссонанс становятся основными настроениями этой версии. В опере Э. Кшенека присутствует сюжетная линия Амура и Психеи, но у Амура нет голоса, а среди действующих лиц можно увидеть Дурачка, Матроса и Солдата. Эстетические границы произведения Кшенека / Кокошки расширяются и за счет многочисленных мифологических и литературных ассоциаций и наложений: так, Психея в финале, казалось бы, счастливом для нее и Амура, поднимается на корабль под черными парусами, уплывая навстречу восходящему солнцу (ср.: миф о Тесее и др.). Конечно, здесь нель- зя не обратить внимания на образ восходящего солнца, вызывающий ряд ассоциативных моментов. Так, в живописи экспрессионизма можно видеть апокалиптические картины, которые построены не столько на библейских мотивах, сколько подразумевают некоторые катастрофические тотальные события, например, стихийного, природного происхождения: на картине Отто Дикса «Восход солнца» (1913) солнце изображено как угрожающее и устрашающее, оно освещает пустое заснеженное поле, над которым кружат вороны. Впрочем, это разрушение может иметь и обратную сторону – следующее за ним обновление, воскрешение. Кроме того, в этот ассоциативный ряд встраивается и драматургия Герхарта Гауптмана («Перед восходом солнца», 1889; «Потонувший колокол», 1896), для которого мотив восходящего солнца имел особое значение. Наконец, более опосредованной, но, на наш взгляд, вполне возможной является параллель сцены возвращения Орфея и Эвридики в опере Кшенека с финалом пьесы Фридриха Гёльдерлина «Смерть Эмпедокла» (1797-1800). Орфей и Эвридика выходят из царства Аида через жерло потухшего вулкана и затем спускаются вниз по его склону, а Эмпедокл, напротив, поднимается на Этну и бросается в огонь действующего вулкана, таким образом возвращая себе душевную гармонию и обретая пантеистическое слияние с природой. Так, имплицитно создается дихотомия катабасиса и анабасиса и усиливаются натурфилософские мотивы, не чуждые экспрессионизму. Важным изменением в опере Кшенека является трансформация запрета оборачиваться в запрет спрашивать о том, что происходило с Эв-ридикой в царстве Аида, непосредственно с загадки начинается и опера. Версия Э. Кшенека трагична в своей неразрешимости конфликта, утрата Орфеем возлюбленной в античном мифе превращается во взаимную ненависть Орфея и Эвриди-ки и повторяющиеся убийства друг друга.
В контексте трансформаций мифа об Орфее и оперы Кшенека можно вспомнить стихотворение Р. М. Рильке «Орфей. Эвридика. Гермес», где подчеркивается дисгармония душевного мира Орфея («Und seine Sinne waren wie entzweit»), Эвридика полностью погружена в переживание собственной смерти как нового бытия («Sie war in sich. Und ihr Gestorbensein / erfüllte sie wie Fülle...»3 - «...сама была бездонной смертью / своей, до полноты небытия / своею новизною наливаясь…»4), а Амура и Психею заменяет Гермес Психопомп. Эвридике неважно возвращение к земной жизни, так как она уже не помнит Орфея и не узнает его. Отметим, что и в современ- ных интерпретациях мотивы памяти, забвения являются центральными, также актуален вопрос, а нужно ли возвращение к прежней жизни самой Эвридике. В этом ракурсе интересно обратить внимание на монодраму Эльфриды Елинек «Тень (Эвридика говорит)» / «Schatten (Eurydike sagt)», написанную и поставленную на сцене австрийского Бургтеатра в 2013 году, а затем в 2014-м – в Баденском государственном театре в Карлсруэ и в 2016-м – на сцене Шаубюне в Берлине. Миф об Орфее интерпретируется с феминистической точки зрения: вся пьеса, по сути, это движение и монолог Эвридики, осознающей свою иную бытийность: она отныне не бессловесная тень, что подчеркивается в названии – Эвридика говорит. Следует отметить и антитетические начало и финал пьесы: в начале дается отрицательная конструкция («Ich weiß nicht…» / «я не знаю…»), в конце – подчеркнутое утверждение бытия («…ich bin» / «…я есть»)5. Противопоставляются в тексте и другие категории и образы: мужское и женское, Орфей и Эвридика, звуки / голос и тишина. Кроме того, сама писательница дает ключ читателю к декодированию текста, предлагая в качестве дополнительного чтения «Удивительную историю Петера Шлемиля» А. фон Шамиссо и работы З. Фрейда.
Следует упомянуть еще мюзикл «Hadestown» Анаис Митчелл, премьера оригинальной версии которого была в 2006 году, а в 2019 году состоялась постановка на Бродвее, мюзикл был показан в Канаде, Великобритании, Южной Корее и на настоящий момент продолжает свою сценическую жизнь. Привлекает эта трансформация мифа об Орфее несколькими аспектами: во-первых, демонстративным и перформативным соединением разных культурно-исторических и национальных кодов. «Орфический код» соединяется с атмосферой американской эпохи Великой депрессии, причем взаимодействие столь разных компонентов во многом определяется именно музыкальными линиями и лейтмотивами. Неслучайно постановка в 2019 году получила восемь премий «Тони», а в 2020 году -«Грэмми». Во-вторых, как и большинство бродвейских постановок, отличаясь тяготением к актуальной проблематике, в том числе социальной, этот мюзикл актуализирует сакральную составляющую мифологического образа Орфея, которую современные постановки затрагивают не часто: так, Орфей рассказывает Эвридике, что сочиняет песню, которая принесет в город весну. Одним из центральных персонажей мюзикла становится Гермес, в бродвейской постановке эту роль исполнял Андре де Шилдс, Гермес предстал перед зрителями в образе немолодого одетого в дорогой костюм темнокожего мужчины; он одновременно выполнял функции самостоятельного персонажа, рассказчика, комментатора, подобно хору в античной трагедии.
Приведем еще несколько примеров усиления поликодовости художественного целого за счет акцентирования перформативного начала. В интерпретациях сюжета об Орфее современной культурой выделяется совместный проект исландского хореографа Эрны Омарсдоттир, Iceland Dance Company и театра Фрайбурга «Орфей + Эвридика» (2022) и постановка DC Theater Arts в Вашингтоне – «Вечерняя песнь / Вечерня Орфея» («Nightsong of Orpheus», 2022), соединяющая два произведения Клаудио Монтеверди с традициями японского театра. «Орфей + Эвридика» позиционируется как «пограничный» мюзикл, который позволяет зрителю и участникам постановки пройти своеобразную перезагрузку. В постановке смешиваются различные мифы, жанры, все границы размыты, актеры не столько играют определенные роли, сколько самовыражаются в хореографии, как отмечали некоторые зрители в отзывах, через несколько минут перестаешь понимать, что происходит на сцене, своеобразным стержнем этого танцевально-театрального эксперимента становится лишь бегущая строка на экранах, рассказывающая ключевые события мифа.
Идея «Вечерни Орфея» (на наш взгляд, это название больше отражает суть проекта, в котором одним из компонентов нового художественного целого является «Вечерня Девы Марии» Монтеверди) заключалась в том, чтобы соединить элементы христианской религиозной вечерни с античным мифом об Орфее и орфическим культом, а также с японской традицией театра масок Но. Однако перед нами не только попытка соединения западных и восточных культурных кодов, а стремление создать универсальную ми-фодраму, способствующую проживанию горя и преодолению утраты.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, изначально имеющий пограничную природу Орфей как образ-медиатор содержит потенциальные интермедиальные интенции, которые открывают возможности конструирования новых форм и способов коммуникации, расширения границ существующих жанров и создания новых жанровых модификаций. Миф об Орфее получает максимальное эстетическое и национально-историческое наполнение за счет комбинирования на разных уровнях художественного целого особой системы как универсальных, так и национально-культурных кодов, что позволяет создать полифоническое звучание и особое новое коммуникативное пространство.
Список литературы Интермедиальные интенции мифа об Орфее в контексте культуры XX - начала XXI века
- Асоян А. А. Семиотика мифа об Орфее и Эвридике. СПб.: Алетейя, 2015. 136 с.
- Блинова Д. Д., Тукова Т. В. Игра в Орфея (об опере Х. Бертуистла «Маска Орфея») // ЮжноРоссийский музыкальный альманах. 2021. № 4. С. 83-90. DOI: 10.52469/20764766_2021_04_89
- Боброва М. С. Рок-опера Александра Журбина «Орфей и Эвридика»: проблемы драматургии // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. 2011. № 4. С. 172-175.
- Болнова Е. В. Мифологическая и культурная составляющие хипхоперы «Орфей & Эвридика» Noize MC // Палимпсест. Литературоведческий журнал. 2019. № 4. С. 120-138.
- Вагнер Р. Кольцо Нибелунга. Избранные работы. СПб.: Terra Fantastica, 2001. 798 с.
- Гнездилова Е. В. Мифологема Орфея в античной культурной традиции // Проблемы исторической поэтики. 2021. Т. 19, № 3. С. 35-52. DOI: 10.15393/j9.art.2021.9542
- Леви-Стросс К. Мифологики: В 4 т. Т. 1. М.; СПб.: ЦГНИИ ИНИОН РАН [и др.], 2000. 398 с.
- Лосев А. Ф. Музыка как предмет логики. М.: Академический проект, 2012. 205 с.
- Матусевич А. П. Эволюция музыкального театра Александра Журбина: от «Орфея и Эвридики» до «Метаморфоз любви» // Манускрипт. 2020. Т. 13, № 12. С. 184-189.
- Никулина И. Н., Симонец М. С. Об интермедиальности мифа «Орфей и Эвридика» // Диалог с античностью в междисциплинарном контексте. Н. Новгород: Нижегородский госуниверситет им. Н. И. Лобачевского, 2023. С. 11-17.
- Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. СПб.: Азбука, 2014. 219 с.
- Предоляк А. А. Миф об Орфее в опере Х. Бертуисла «Маска Орфея» как диалог эпох // Современные аспекты диалога литературы, музыки и изобразительного искусства в пространстве западноевропейской и отечественной музыкальной культуры: Сб. науч. ст. по материалам II Всерос. науч.-практ. конф. с между-нар. участием. Краснодар, 2020. С. 184-191.
- Цвигун Т. В., Черняков А. Н. Миф как источник культурной легитимации: рок- и рэп-версии «Орфея и Эвридики» // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Филология, педагогика, психология. 2019. № 4. С. 81-92.
- Шеллинг Ф. В. Философия искусства. М.: Мысль, 1966. 488 с.