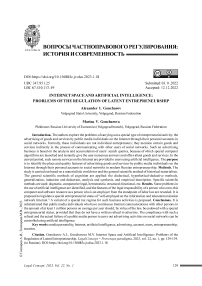Интернет-пространство и искусственный интеллект: проблемы регулирования латентного предпринимательства
Автор: Гончаров Александр Иванович, Гончарова Марина Вячеславовна
Журнал: Legal Concept @legal-concept
Рубрика: Вопросы частноправового регулирования: история и современность
Статья в выпуске: 1 т.22, 2023 года.
Бесплатный доступ
Введение: авторы исследуют проблематику осуществления особого вида предпринимательской деятельности - рекламирования товаров и услуг публично-медийными физическими лицами в Интернете через их личные аккаунты в социальных сетях. Формально указанные физические лица не являются индивидуальными предпринимателями, упоминают те или иные товары и услуги косвенно в процессе общения с другими пользователями социальных сетей. Такой рекламный бизнес основан на анализе и накоплении поисковых запросов пользователей, в результате реагирования на которые запускаются специальные компьютерные алгоритмы и мгновенно выдают данному пользователю многочисленные варианты ответов и предложений о товарах и услугах. В текущий период такие дистанционные услуги в сети Интернет оказываются пользователям при помощи искусственного интеллекта. Цель: выявить место и качественные признаки рекламирования товаров и услуг публично-медийными физическими лицами в Интернете через их личные аккаунты в социальных сетях в предпринимательстве современной России. Методы: исследование проведено на основе материалистического мировоззрения и всеобщего научного метода исторического материализма. Применены общенаучные методы познания: диалектический, гипотетико-дедуктивный метод, обобщение, индукция и дедукция, анализ и синтез, эмпирическое описание. Использованы частно-научные методы: догматический, сравнительно-правовой, герменевтический, структурно-функциональный и др. Результаты: выделен ряд проблем использования искусственного интеллекта, раскрываются особенности юридической ответственности лица, владеющего данным компьютерно-программным ресурсом, как лица, являющегося работодателем с позиций трудового права. Предлагается законодательно закрепить специальный предпринимательский статус «самозанятый в информационно-телекоммуникационной сети Интернет». Предлагается вариант специального налогового режима для такой предпринимательской деятельности. Выводы: обосновано, что публично-медийные физические лица, имеющие непрерывные интернет-коммуникации с другими лицами в количестве не менее 1 млн лиц в среднем за год, должны в силу закона наделяться специальным предпринимательским статусом при условии отсутствия их письменного отказа от рекламной деятельности. Соблюдение такого отказа и фактическое неосуществление публично-медийным лицом рекламной деятельности в социальных сетях может контролироваться при помощи искусственного интеллекта.
Медийная личность, интернет, искусственный интеллект, реклама, аккаунт, пользователи, предпринимательство, налогообложение
Короткий адрес: https://sciup.org/149142879
IDR: 149142879 | УДК: 347.951.25 | DOI: 10.15688/lc.jvolsu.2023.1.18
Текст научной статьи Интернет-пространство и искусственный интеллект: проблемы регулирования латентного предпринимательства
DOI:
Виртуальное имущество, существующее только в «цифровом формате», обладает экономической ценностью также, как и материальные вещи [15]. Например, ООО «ВКонтакте» принадлежит веб-сайт с доменным именем http://www. vk. com. Однако зададимся вопросом, являются ли действия по регистрации своего нового пользователя предпринимательской деятельностью. Хотя процедуру регистрации пользователя на этом веб-сайте (создание аккаунта) можно рассмотреть как вариант заключения безвозмездного договора оказания информационных услуг. В процессе регистрации пользователя ООО «ВКонтакте» не получает прибыли, то есть проблематично рассмат- ривать этот процесс как предпринимательскую деятельность [14].
Рассматривая тот же вопрос с позиций пользователя аккаунта, видим, что одновременно с этим потенциальные рекламодатели могут заинтересоваться новым пользователем (особенно, если это публично-медийная личность). После чего могут систематически заключать с ним коммерческие договоры по размещению рекламы в его аккаунте. Здесь еще возникает вопрос, какова правовая характеристика действий тех самых публично-медийных личностей, которые «ненавязчиво» рекламируют через свои аккаунты в социальных сетях услуги и товары, то есть контекстные упоминая о том, что они в процессе своей повседневной жизни используют товар (услуги) того или иного производителя (услугодателя).
На этом простейшем примере можно отметить, что на современном этапе не определены признаки предпринимательской деятельности, осуществляемой в сети Интернет, ввиду чего выделение таких признаков является значимым [17]. Основные проблемы в области правового регулирования гражданского оборота, осуществляемого в сети Интернет, связаны с тем, что на текущий период:
– не определен круг субъектов, которые осуществляют имущественный оборот, предпринимательскую деятельность (кроме СМИ и блогеров, зарегистрированных как СМИ);
– не раскрыты сущностные признаки договорной практики и предпринимательской деятельности в сети Интернет, а также примерный перечень видов деятельности (к примеру, предоставление доменного имени отличается по правовым характеристикам от размещения рекламы);
– не урегулирован вопрос таргетированной рекламы и «ненавязчивой» рекламы – контекстного упоминания со стороны публичномедийных личностей товаров (услуг) того или иного производителя (услугодателя);
– не урегулированы особенности предоставления потребительских кредитов и финансовых услуг (например, это деятельность финансовых организаций в Интернете, Qiwi-кошелек, Яндекс-деньги, которые не подпадают под правовое поле общественных отношений, которые регулируют деятельность кре- дитных организаций). При этом многие мик-рофинансовые организации предоставляют кредиты онлайн.
Исследование
Публичное регулирование конкуренции на рынке товаров и услуг на современном этапе также является актуальным, что обусловлено дороговизной рекламы в целом, а также постоянным возникновением новых способов и видов рекламы, требующих правового регулирования. К последним относится, в частности, таргетированная реклама, которая позволяет транслировать определенной целевой аудитории объявления о товарах и услугах, в которых данная аудитория заинтересована. Интересы аудитории анализируются и систематизируются на основе общедоступной информации из профилей Интернет-пользовате-лей алгоритмами искусственного интеллекта [18]. Отличие таргетированной рекламы от «ненавязчивой» (контекстной) рекламы, размещаемой в социальных сетях, состоит в том, что при создании таргетированной рекламы используются данные пользователей, а в случае контекстной – ключевые слова, которые пользователь вводит в строку поиска.
В настоящее время основными правовыми проблемами использования таргетированной рекламы, как представляется, являются следующие.
-
1. Использование условных личных данных пользователей (поскольку реклама формируется на основе анализируемых пользовательских запросов). При этом такие личные данные хотя и иллюстрируют особенности интересов пользователя, не подпадают под защиту как персональные данные. В то же время в условиях развития киберпреступности свободное использование данных о поисковых запросах сторонними лицами может привести к росту числа случаев мошенничества, а также навязчивой рекламы. Это предполагает необходимость регулирования доступа сторонних лиц к поисковым запросам (исключение составляет доступ правоохранительных органов).
-
2. Использование при создании рекламы чужих наименований, товарных знаков, фирменных обозначений и др., поскольку именно на
основе пользовательских запросов (обращения к товарам или услугам конкретного вида и конкретных хозяйствующих субъектов) и разрабатывается таргетированная реклама [16]. Фактически таргетированная реклама подразумевает использование сведений о тех товарах и услугах (и предоставляющих их хозяйствующих субъектах), которые наиболее интересны пользователю, потенциальному потребителю, то есть прямое использование сведений о популярности у потребителя товаров и услуг того или иного вида или производителя.
Указанный признак таргетированной рекламы на современном этапе, как представляется, требует урегулирования, поскольку создание такой рекламы основывается на использовании информации о других рекламируемых товарах и услугах. Таким образом, чужие товарные знаки при создании таргетированной рекламы используются в качестве «информационного источника». Вместе с тем в законодательстве и практике применения норм данный признак не рассматривается, как признак недобросовестной конкуренции, что представляется некоторым упущением, это вызывает сложности в практике правоприменения [5].
Например, не соответствующей нормам законодательства признается в одном из определений Федеральной антимонопольной службы таргетированная реклама, которая содержит фирменное наименование другой организации (чужой товарный знак) [8]. В рассматриваемом случае в ФАС поступила жалоба на тот факт, что юридическое лицо использует в таргетированной рекламе часть товарного знака.
Рассматривая вопрос использования таргетированной рекламы, ФАС, в частности, указала, что на основании п. 1 ст. 14.6 ФЗ «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция таким путем, который может ввести в заблуждение потенциального потребителя при смешении услуг, предоставляемых хозяйствующим субъектом, с товарами и услугами, предоставляемыми иным хозяйствующим субъектом или конкурентом при использовании сходного товарного знака, коммерческого обозначения, страны происхождения или фирменного наименования [13]. В том числе ФАС указала на невозможность при организации рекламной де- ятельности использования товарных знаков и иных обозначений и наименований в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, включая размещение в доменном имени и при использовании иных способов адресации. Последняя оговорка правоприменителя указывает на фактическую невозможность использования таргетированной рекламы, ввиду того, что само введенное ФАС понятие «иные способы адресации» достаточно размыто.
Следует отметить, что на решение ФАС в приведенном случае повлияло именно использование чужого товарного знака, а не сам факт использования таргетированной рекламы. Аналогичная ситуация имеет место в материалах Решения Арбитражного суда Пермского края от 19.03.2020 г. по делу № А50-32717/2019, в ходе подготовки которого анализировался случай незаконного использования в таргетированной рекламе товарного знака «системно-векторная психология». В указанном случае также имела место ссылка именно на незаконное использование товарного знака, а не на использование инструментов таргетированной рекламы как таковых [11]. Следовательно, указание на невозможность размещения рекламы в имени домена остаточно ясно указывает, что использование таргетированной рекламы ФАС приравнивает к одному из способов недобросовестной конкуренции.
В практике судебного правоприменения возникают различные противоречия, требующие выработки единства подходов. В этой связи анализ особенностей практики судебного правоприменения, в частности электронных доказательств и их учета судом достаточно актуален. В судебных процедурах не принимаются во внимании свидетельские показания в случае несоблюдения простой письменной формы сделки, при условии того, что данная форма сделки установлена в законе для простой письменной формы сделок [10].
Факт совершения каких-либо действий по сделке, если для ее вида существует необходимость соблюдения простой письменной формы, не будет установлен судом лишь на основании одних свидетельских показаний при представлении письменных доказательств, которые опровергают этот факт [6]. В частности, расписка заемщика, вексель или иной документ, удостоверяющий передачу определенной денежной суммы (вещи) от кредитора к заемщику, служат именно такими письменными доказательствами, которые подтверждают заключение договора займа и регулируют его условия [7].
Статья 162 ГК РФ предусматривает признание сделки недействительной лишь в том случае, если это напрямую указано в законе или договоре (прямые указания содержатся в ст. 331, 362, 820, 940, 1028 ГК РФ и др.). Несоблюдение простой письменной формы сделки, оформленной в виде договора, влечет недействительность сделки. Данный договор признается ничтожным. И именно в рамках этого суду при возникновении спора могут быть предъявлены электронные доказательства – например, оформленный в электронном виде договор, либо переписка согласования условий сторон по конкретному договору или сделке. Например, судом установлено, что признание недействительной одной части оспоренного пункта договора не повлияет на исполнение сторонами обязательств по договору, а признание этого договора недействительным не влечет ничтожности других условий договора [9]. Норма п. 2 ст. 167 ГК РФ предполагает основное юридическое последствие недействительности сделок: каждая из сторон обязана возвратить второй стороне все имущество, полученное по сделке. То есть при признании сделки недействительной, стороны возвращаются в то имущественное положение, которое было до сделки.
При разрешении споров по означенным выше сделкам сформировались следующие требования к принятию электронных документов как письменных доказательств:
-
– доступность восприятию человека (читаемость, возможность понять смысл);
-
– надежность способа подготовки, хранения передачи электронного доказательства;
-
– надежность способа идентификации составителя доказательства;
-
– правильность формы и особенностей процедуры фиксации информации [3].
В рамках оценки российской судебной практики в области защиты прав интеллектуальной собственности при осуществлении предпринимательской деятельности в сети Интернет и в том числе авторских прав на рекламу можно выделить ряд следующих основных проблем.
-
1. Сложность доказывания факта нарушения права в рамках того, что многие символы, буквы, рисунки, идеи используются различными правообладателями и так или иначе имеют элементы сходства, а мультимедийные продукты могут структурно включать в себя продукты интеллектуальной деятельности, на которые ранее уже были зарегистрированы авторские права.
-
2. Проблемы оценки в суде отдельных доказательств (например, непринятие судом видеозаписей в качестве доказательств, отсутствие оценки отдельных доказательств и др.).
-
3. Недостаточный объем судебных постановлений на практике [18].
Развитие машиночитаемого права, концепция которого утверждена в 2021 г. Правительством РФ, могло бы существенно повысить уровень правоприменения в спорных случаях. В то же время субъекты предпринимательской деятельности благодаря цифровым платформам на основе этой технологии могли бы автоматически проверять, правильно ли составлены юридические документы, в том числе контракты и договоры. В настоящее время технологии машиночитаемого права частично применяются при работе видеорегистраторов на дорогах. Здесь необходимо уточнить, что машиночитаемое право реализуется и создается в том числе средствами искусственного интеллекта.
Обратим внимание, что Трудовой кодекс Российской Федерации регулирует взаимоотношения работника и работодателя, однако в случае, если в качестве «работника» выступает искусственный интеллект, который производит товар (услуги) для своего «работодателя», возникает ситуация, при которой отношения проблематично рассматривать, как трудовые [12].
Искусственный интеллект с экономических позиций может быть рассмотрен как своего рода средство производства, однако, с позиции трудового права невозможно точно ответить на вопрос, является ли искусственный интеллект объектом или субъектом трудовых отношений.
Особенности искусственного интеллекта, которые указывают на возможность его рассмотрения как субъекта трудовых отношений – это выполнение им общественно-полезной деятельности (производство товаров, оказание услуг, которые являются потребляемыми в обществе), а также способность к самообучению, совершенствованию своей деятельности. В то же время не позволяет рассматривать искусственный интеллект в качестве субъекта трудовых отношений тот факт, что у него отсутствует биологическая жизнь и волевая человеческая личность, как таковые.
В процессе имущественного оборота существенной проблемой становится переход искусственного интеллекта от одного работодателя к другому. Например, в случае, если одним работодателем создана программа, производящая услуги, которая передана другому работодателю в пользование, и последний существенно улучшил качество и повысил свою прибыль от оказываемых услуг за счет свойства самообучаемости искусственного интеллекта. Здесь достаточно проблематично оценить объем прав одного и второго работодателя на данные улучшения. Сам искусственный интеллект является объектом интеллектуальной собственности и в то же время он самостоятельно производит интеллектуальную собственность – например создает новые алгоритмы, технологии и др. В связи с этим проблемой выступает оценка возможности искусственного интеллекта выступать «субъектом» авторских прав на созданные им технологии, ноу-хау или элементы, что регулируется гражданским законодательством.
С данной точки зрения, искусственный интеллект, который сам является собственностью своего «работодателя», производит объект интеллектуальной собственности. С точки зрения формальной логики это предполагает автоматическое право «работодателя» искусственного интеллекта на созданные последним объекты интеллектуальной собственности, поскольку данный результат интеллектуальной деятельности можно рассматривать как служебный. Однако в том случае, если вместо искусственного интеллекта выступает работник – физическое лицо, то он может отчуждать права на созданную технологию или ноу-хау только добровольно и за вознаграждение. Несомненно, искусственный интеллект не является субъектом гражданско-правовой воли.
В рамках контроля качества исполнения функций и создаваемых электронно-виртуальных и информационных продуктов и услуг искусственным интеллектом можно выделить следующую проблему. В частности, в соответствии с гражданским законодательством работодатель отвечает за вред, который причинен его работником. Проблема регулирования указанных отношений состоит в том, что распределение ответственности организации и работника регулируется не только нормами административного права, но и нормами гражданского и трудового права.
Ответственность юридического лица или гражданина (индивидуального предпринимателя) за вред, причиненный его работником урегулирована в целом ст. 1068 ГК РФ [1]. Одновременно существует достаточно большое число нормативных актов, которые так или иначе касаются вопроса регулирования ответственности юридических лиц за действия их работников (в первую очередь это законы, регулирующие финансовую сферу, например, работу банков, страховых компаний и т. д.).
Кроме того, следует отметить, что за правонарушением юридического лица во всех случаях стоит конкретное физическое лицо – руководитель, главный бухгалтер, рядовой работник, санкция для которого несколько ниже, так как законодательство об административных правонарушениях предусматривает более легкие наказания за проступки физических лиц.
Таким образом, институт административной ответственности юридических лиц отличается тем, что в нем одной из правовых проблем выступает проблема разграничения ответственности физического и юридического лица. К тому же достаточно сложной задачей является то, что юридическое лицо фактически никак не защищено от действия своих работников, если не будет доказано, что работник совершил правонарушение в личных целях, а не в целях предоставления дополнительных выгод юридическому лицу.
Например, достаточно проблематично доказать тот факт, что главный бухгалтер коммерческой организации, решив получить лич- ную выгоду, использовал свое положение как работника организации, а при этом руководитель организации не знал о его действиях. В таких случаях довольно часто на юридические лица ответственность возлагается неправомерно. Достаточно сложно доказуема также и та часть состава правонарушения, которая трактуется как действие либо бездействие. По сути, у организации не может быть волеизъявления, и характеризовать ее действие либо бездействие возможно только в отношении конкретного физического лица – как правило, руководителя или главного бухгалтера. При этом также достаточно трудно доказать, что, например, руководитель действительно дал поручение выполнить установленное законом действие своему коллеге – главному бухгалтеру (представить документы или явиться в случае налоговой проверки и др.). Достаточно часто руководитель может перекладывать вину на своих работников, что подразумевает уже их наказание, а не наказание организации.
Применительно к искусственному интеллекту неправомерное «переложение» вины на него не исключено со стороны работодателя, как, например, ссылка на техническую ошибку, которая привела к нарушениям прав потребителей продукции или услуг [2]. Однако возникает вопрос о том, насколько существенна степень вины работодателя. Если в случае возникновения такой ситуации с работником – физическим лицом, суд установит вину работника и объем вреда (например, в рамках регрессного иска от работодателя к работнику после возмещения работодателем ущерба). В случае причинения вреда вследствие ошибки искусственного интеллекта у работодателя есть возможность уйти от ответственности. При этом суды в таких случаях в полной мере могут рассматривать исключительно вину работодателя, что также нарушает его права.
Ситуация обусловлена тем фактом, что работник фактически осуществляет деятельность (следовательно, и ту деятельность, которая причинила вред) по указанию и (или) под контролем работодателя, то есть исполняет именно его волю. В рамках судебной исковой практики по вопросам ответственности юридических лиц за действия их работников зачастую не имеет значения, оформлены ли тру- довые отношения надлежащим образом. Однако искусственный интеллект, хотя и исполняет волю работодателя, человеческой воли, в отличие от физического лица, не имеет, в связи с чем проблематично рассматривать его как потенциального субъекта, способного нести ответственность в трудовом и гражданском праве. Нет ясности также и в решении проблемы разделения ответственности работодателя и искусственного интеллекта в случае, если при функционировании последнего, вследствие технической ошибки возникли последствия, соответствующие составу административного или уголовного правонарушения.
Например, в случае, если вследствие нарушения установленных правил причинен ущерб окружающей среде, который оказался настолько значительным, что предусматривает уголовную ответственность для руководителя организации и лиц, которые отвечают за соблюдение соответствующих норм и правил. Либо в случае нарушения правил техники безопасности, пожарной безопасности, если это повлекло причинение вреда здоровью, повлекло смерть других лиц, не вполне понятен механизм привлечения таких лиц к ответственности. Поскольку их собственное виновное поведение (обязательный признак состава преступления в соответствии с уголовным законодательством) в данном случае отсутствует. Имеется только «условно виновное» поведение искусственного интеллекта, который не может выступать субъектом уголовного преступления.
Предполагается, что за действия искусственного интеллекта должен отвечать работодатель и иные ответственные лица. При этом функционирование искусственного интеллекта и его «поведение» может не поддаваться контролю, и вина руководителя организации, в случае если он следовал всем установленным правилам и нормам, будет отсутствовать.
Заключение
Существует ряд проблем использования искусственного интеллекта, имеют место особенности юридической ответственности лица, владеющего таким сложно-интеллектуальным компьютерно-программным ресурсом, как лица, являющегося работодателем с по- зиций трудового права. При этом выделяется ряд проблем правоприменения и органами исполнительной власти, и в судах при разрешении споров.
Следует выделять особый вид предпринимательской деятельности – рекламирование товаров и услуг публично-медийными физическими лицами в информационно-коммуникационной сети Интернет через их личные аккаунты на веб-сайтах социальных сетей. Несмотря на то что указанные физические лица юридически не являются индивидуальными предпринимателями, они систематически и с целью получения прибыли упоминают те или иные товары и услуги косвенно, в процессе общения с другими пользователями вебсайтов социальных сетей. Рекламодатели такой рекламный бизнес основывают на анализе и накоплении поисковых запросов пользователей, в результате реагирования на которые запускаются специальные компьютерные алгоритмы и мгновенно выдают очередному пользователю многочисленные варианты ответов и предложений о товарах и услугах. Такие массовые дистанционные услуги в информационно-коммуникационной сети Интернет предоставляет неограниченному кругу пользователей преимущественно искусственный интеллект.
По мнению авторов, публично-медийные физические лица, имеющие непрерывные ин-тернет-коммуникации с другими лицами через личный аккаунт на веб-сайте в социальной сети в количестве не менее 1 млн лиц в среднем в течение 1 года, должны в силу закона наделяться специальным предпринимательским статусом, при условии отсутствия их письменного отказа от рекламной деятельности. Соблюдение такого отказа и фактическое неосуществление публично-медийным лицом рекламной деятельности в социальных сетях, равно как и осуществление деятельности, подсчет и контроль фактического наличия количества пользователей в пределах 1 млн лиц и более в среднем в течение 1 года должно контролироваться при помощи искусственного интеллекта. Авторами предлагается для означенных публично-медийных физических лиц закрепить в законе специальный предпринимательский статус – «самозанятый в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет». Необходимо также закрепить в законе вариант специального налогового режима для такой предпринимательской деятельности. По мнению авторов, это должен быть режим вмененного налога: 1 коп. за 1 постоянного пользователя в год в каждом аккаунте «самозанятого в информационно-телекоммуникационной сети Интернет».
Использование искусственного интеллекта и выделение указанного нового вида предпринимательской деятельности физических лиц в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, легитимация этого бизнеса, включая его налогообложение, будет соответствовать высокому уровню правового регулирования общественных отношений и коммуникаций современного социума российской юрисдикции.
Список литературы Интернет-пространство и искусственный интеллект: проблемы регулирования латентного предпринимательства
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 08.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) // Российская газета. - 1996. -6 февр. (№ 23) ; 1996. - 7 февр. (№ 24) ; 1996. -8 февр. (№ 25) ; 1996. - 10 февр. (№ 27).
- Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) «О защите прав потребителей» // Российская газета. - 1996. - 16 янв. (№ 8).
- Киселева, Е. В. Электронный документ как доказательство в гражданском процессе / Е. В. Киселева // Молодой ученый. - 2016. - № 23. - С. 31-33.
- Матыцин, Д. Е. Розничное финансирование инвестиций посредством дистанционного цифрового компьютерного алгоритма / Д. Е. Матыцин // Legal Concept = Правовая парадигма. - 2021. -Т. 20, № 2. - С. 150-158. - DOI: https://doi.org/10. 15688/lc.jvolsu.2021.2.20
- Матыцин, Д. Е. Стратегия управления качеством в индустрии 4.0 и построения когнитивной экономики на базе производственно-технологических факторов в РФ и ЕС / Д. Е. Матыцин // Право. Экономика. Психология. - 2021. - № 2. - С. 40-51.
- Определение СК по гражданским делам ВС РФ от 24.12.2013 № 32-КГ13-8. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: https://rospravosudie. com/court-zilairskij-rajonnyj-sud-respublika-bashkortostan-s/act-561858716/
- Определение Московского городского суда от 18.04.2014 № 33-12882/14. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: https://rospravosudie.com/ court-zilairskij-rajonnyj-sud-respublika-bashkortostan-s/act-561858716/. - Загл. с экрана.
- Определение ФАС о возбуждении дела № 83/Р-2017 от 9 августа 2017 г. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа://br.fas.gov.ru/to/ kemerovskoe-ufas-rossii/83-r-2017-8bca7ee5-28d1-4899-b369-da64262a7bef/. - Загл. с экрана.
- Постановление суда Поволжского округа от 27.10.2011 № Ф06-9135/14 по делу № А12-3253/ 2014. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: https://rospravosudie. com/court-zilairskij-rajonnyj-sud-respublika-bashkortostan-s/act-561858716/. - Загл. с экрана.
- Решение по делу 2-156/2016-Х ~ М-79/2016-Х (30.11.2017, Зилаирский районный суд (Республика Башкортостан)). - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: https://rospravosudie.com/court-zilairskij-rajonnyj-sud-respublika-bashkortostan-s/ act-561858716/. - Загл. с экрана.
- Решение Арбитражного суда Пермского края от 19.03.2020 по делу № А50-32717/2019. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: https:// kad.arbitr.ru/Document/Pdf/ 37687520-0811-4060-a13f-78ad0aee7faf/4e89abb3-6773-442d-886a-83e302dee 7d2/A50-32717-2019_20200617_Reshenija_i_ postanovlenija.pdf?isAddStamp=True. - Загл. с экрана.
- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 22.11.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.11.2021) // Российская газета. - 2001. - 31 дек. (№ 256).
- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О защите конкуренции» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) // Российская газета. - 2006. - 27 июля (№ 162).
- Фролов, А. А. Анализ механизмов обнаружения запрещенного содержимого в сети Интернет / А. А. Фролов, Д. С. Сильнов, А. М. Садретдинов // International Journal of Open Information Technologies. - 2019. - Т. 7, № 1. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/ analiz-mehanizmov-obnaruzheniya-zapreschennogo-soderzhimogo-v-seti-internet. - Загл. с экрана.
- Inshakova, A. O. The Neo-Industrial Paradigm of Protecting Business Entity's Rights on Means of Individualization in the EAEU / A. O. Inshakova, A. I. Goncharov, D. E. Matytsin // The Transformation of Social Relationships in Industry 4.0: Economic Security and Legal Prevention. - Cham, Information Age Publishing Inc., 2022. - P. 383-392.
- Goncharov, A. I. Regulation of the Turnover of Intellectual Property on the Internet: Blockchain-Protection of the Rights of Authors / A. I. Goncharov, D. E. Matytsin, A. O. Inshakova // The Transformation of Social Relationships in Industry 4.0: Economic Security and Legal Prevention. - Cham : Information Age Publishing Inc., 2022. - P. 199-209.
- Goncharov, A. I. Preventive and Proactive Measures to Protect the Rights of Consumers of Entertainment Services / A. I. Goncharov, D. E. Matytsin, A. O. Inshakova // The Transformation of Social Relationships in Industry 4.0: Economic Security and Legal Prevention. - Cham : Information Age Publishing Inc., 2022. - P. 209-221.
- Matytsin, D. E. The Internet As a Special Information Space for Attracting and Implementing Investments / D. E. Matytsin // New Technology for Inclusive and Sustainable Growth: Perception, Challenges and Opportunities. - Singapore : Springer, 2022. - DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-16-9804-0_20