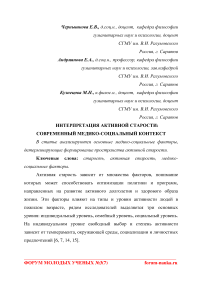Интерпретация активной старости: современный медико-социальный контекст
Автор: Чернышкова Е.В., Андриянова Е.А., Кузнецова М.Н.
Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka
Статья в выпуске: 3 (7), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются основные медико-социальные факторы, детерминирующие формирование пространства активной старости.
Старость, активная старость, медико-социальные факторы
Короткий адрес: https://sciup.org/140278058
IDR: 140278058
Текст научной статьи Интерпретация активной старости: современный медико-социальный контекст
Активная старость зависит от множества факторов, понимание которых может способствовать оптимизации политики и программ, направленных на развитие активного долголетия и здорового образа жизни. Эти факторы влияют на типы и уровни активности людей в пожилом возрасте, рядом исследователей выделяется три основных уровня: индивидуальный уровень, семейный уровень, социальный уровень. На индивидуальном уровне свободный выбор и степень активности зависит от темперамента, окружающей среды, социализации и личностных предпочтений [6, 7, 14, 15].
Возраст и пол представляются двумя главными факторами, которые рассматриваются в рамках исследований вопросов старения. Изначально являясь биологическими, пол и возраст как социальные факторы определяют образ поведения в сфере активной старости посредством культуры, включая ценности и нормы, социально-экономическую структуру и институты. Многие авторы считают, что некоторые биосоциальные, психологические и культурные факторы, такие как индивидуальные потребности, индивидуальные убеждения и специфический образ жизни и опыт играют в данном случае более важную роль [3, 9, 12].
Структура семейного быта, супружеский статус, жизненные планы, доступность детей и других членов семьи и характер семейных отношений обуславливают различное отношение к активному старению. Структура семейного быта на первый взгляд не является столь важным условием, влияющим на распространение экономической активности среди пожилых людей. Однако в расширенных семьях и мужчины и женщины, в особенности женщины, заботятся о других людях больше, чем дети. Супружеский статус и жизненные планы дифференцируются в зависимости от гендера, и, с одной стороны, отражаются в традиционном разделении гендерных ролей, а, с другой стороны, раскрывают эффекты других биосоциальных процессов, таких как классификация и отбор.
К наиболее актуальным рискам активности в позднем возрасте можно отнести два основных. Первый – дискриминация, распространяющейся практически на все сферы жизни общества. Второй – финансовое обеспечение представителей старшей возрастной группы. Действительно, финансовое напряжение, проявляющееся на системах социального обеспечения, привело к дискуссии в отношении активного старения. Говорим ли мы о политике на рынке труда, реформе пенсии или системах здравоохранения, наиболее часто упоминаемые ключевые слова – соотношение стоимости и эффективности. Инновационная политика в отношении активного образа жизни в старости наталкивает на множество препятствий, среди которых наиболее серьезным является экономическая эффективность и финансовая отдача, которую государственные власти планируют получить от таких мер как увеличение пенсионного возраста, социальных мер, а также реформирования здравоохранения [13].
Кроме того, на рынке труда одной из главных проблем является проблема неадекватного уровня образования и квалификации пожилых работников. Несмотря на то, что уровень образования становится более высоким, он все еще отстает от современных требований. Концепция непрерывного обучения, предполагающая получение образования и повышение квалификации в течение всего периода профессиональной деятельности в России оказалась мало эффективна. Продвижение положительного отношения к людям пожилого возраста на работе является важной стратегической целью.
Важно отметить еще один риск активной старости – негибкость системы социального обеспечения относительно сочетания возможности работы и пенсии. Наконец в системе здравоохранения, многоуровневая система управления, вовлекающая различные территориальные уровни и стационарное лечение, также как и различных поставщиков обслуживания, делает реформу профилактической медицины так же как улучшение распределения ресурсов трудной осуществимыми. Сверхспециализация, характеризующая медицинскую профессию, является дополнительным барьером. Напротив, увеличение понимания среди населения важности образа жизни и хорошего здоровья, а также и целостного характера здоровья открывает возможность положительного изменения [1, 4, 10].
Подобные результаты характерны для всех стран. Однако существуют и различия, и они, прежде всего, выражаются в степени, а не в сущности проводимых мероприятий. Несомненно, Чешская республика и Польша, которые все еще подвергаются процессу перехода и в терминах экономического реструктурирования и в терминах реформы социального обеспечения, оказываются перед вызовом демографического старения в особенно острой форме. Более богатые страны со всесторонними системами благосостояния как Финляндия, Норвегия или Швейцария, напротив, лучше подготовлены, чтобы иметь дело с подобными вызовами.
Первопричиной всех проблем, связанных с демографическим старением, по мнению многих исследователей, является возрастная дискриминация. Как указывает А. Уокер, в современных обществах, «в которых молодая – положительная/пожилая – отрицательная культура доминирует в системе занятости, СМИ, популярной культуре и в других ситуациях (исключая семью), вклад пожилых людей не оценены до такой же степени, как вклад молодых людей. Восприятие пожилых людей в современном обществе, а также представления об их возможностях и способностях, делает их маргиналами, отодвигая на периферию общественной жизни, а дискриминация по возрасту представляет собой антитезу активной старости [16].
Дискриминация людей пожилого возраста дает начало проблемам политики в широком диапазоне социальных арен [6, 11, 17]. Во-первых, методы рынков труда социально исключают пожилых рабочих. Вообще, рынки труда создают и укрепляют несправедливость между богатыми и бедными, мужчинами и женщинами, старыми и молодыми. Находясь в системе принципов занятости устойчивого уровня, «возрастные барьеры препятствуют тому, чтобы пожилые рабочие остались в рамках рынка труда или присоединились к нему после выхода на пенсию. Работодатели чтобы уменьшить избыток рабочей силы, снижают количество занятых в производстве пожилых рабочих (часто в согласии с профсоюзами) и, в свою очередь, долгосрочная безработица затрагивает пенсионеров в большей степени, чем молодых людей. В результате, пожилые работники, как само собой разумеющееся, изгнаны из сферы занятости и отстранены от возможности трудоустроится. Во-вторых, условия системы доходов в старости воспроизводят и увековечивают несправедливость рынка труда. Модели социального страхования усиливают социальные различия на пенсии. Кроме того, все европейские системы пенсии поощряют досрочный выход на пенсию и подавляют любой тип деятельности, экономической или иной, после выхода с рынка труда. Зависимость и бездеятельность воспроизводятся в европейских системах пенсии. В-третьих, системы здравоохранения по всей Европе не приспособлены, для того чтобы иметь дело с демографическим старением. Традиционный акцент на коррективном а не профилактическом здравоохранении не только увеличит затраты здравоохранения но также и налагает высокие потери на общество. Здоровье и активность диалектически связаны. Хорошее здоровье – предварительное условие для активной жизни, которая, в свою очередь, продвигает хорошее здоровье.
В отношении политики старости, полагают исследователи, возникает парадокс: с одной стороны, демографическое старение увеличивает количество пожилых избирателей, но с другой стороны, их политическое значение находится в состоянии упадка. Однако, в 90-е годы XX века в европейских государствах было создано множество организаций, которые позволяют пожилым людям активно участвовать в политической жизни общества [15, 17]. Формы организации, местоположение и границы влияния этих организаций очень разнообразны. В то время как некоторые из них предоставляют пожилым людям реальное политическое влияние, другие поглощают и рассеивают политические стремления пенсионеров.
Проблема старения носит сугубо дискуссионный характер, однако решение ее до сих пор не найдено. Чиновники сконцентрировались на признаках, а не первопричинах. В то время как они озабочены отношениями зависимости, возрастающими нормами вклада социального страхования или увеличивающимися затратами здравоохранения, они почти теряли из виду «реальную проблему», а именно, «экономическую норму деятельности и, определенно, безработицу среди людей старшего возраста». Решение этой проблемы потребует распутывания сложных связей между социальной несправедливостью, дискриминацией возрастной группы и социальным исключением [2, 8, 13].
Одним из препятствий является большая неопределенность в медицинских знаниях об отношении между состоянием здоровья и старостью. Профессиональная медицина только начинает понимать, значения старения для здоровья человека. Поскольку подобное положение вещей бросает вызов традиционной медицинской концепции оказания медицинской помощи, целью которой является лечение, исцеление организма и восстановление его нормального состояния [5, 9]. Вместо этого, задачей врача является успешное управление несколькими заболеваниями и полипатия, а не лечение заболеваний и инвалидности в пожилом возрасте. Демографическое старение, особенно увеличение численности очень старых людей, предполагает рост количества дегенеративных заболеваний, социально изнуряющих возрастных состояний и психических расстройств. Сложившиеся условия требуют создания и развития новых форм терапии среди медицинских и немедицинских работников сферы здравоохранения.
Стоит также отметить, что политика в области здравоохранения ориентирована на лечебную медицину в ущерб профилактике и реабилитации. В результате происходит сокращение финансирования сферы социальной помощи и укрепления здоровья.
Серьезным препятствием на пути распространения концепции активной старости является отсутствие осознания общественностью того факта, что демографическое старение населения будет иметь влияние на общество в целом и, следовательно, заслуживает всесторонних ответных мер. Проект активной старости является важным аспектом комплексного социокультурного обновления, эффективность которого зависит от решения вопросов в области здравоохранения, рынка труда, жилья, транспорта, городского и сельского планирования.
Список литературы Интерпретация активной старости: современный медико-социальный контекст
- Андриянова Е.А., Алешкина О.Ю., Порох Л.И. Динамика социального статуса системы повышения квалификации среднего медицинского персонала (на материалах интервью)//Саратовский научно-медицинский журнал. 2012. №1. С. 023-027.
- Андриянова Е.А., Гришечкина Н.В. Проблемы формирования системы электронного здравоохранения в России//Здравоохранение Российской Федерации. 2012. №6. С. 27-30.
- Варламова С.Н., Седова Н.Н. Здоровый образ жизни -шаг вперед, два назад//Социологические исследования. 2010. №4. С. 75-87.
- Веретельникова Ю.Я., Чернышкова Е.В., Беляков А.Е. Личностные детерминанты стратегий преодоления трудных ситуаций у студентов медицинского вуза//Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9. №1. С. 132-136.
- Дорогойкин Д.Л., Кочеткова Т.В., Чернышкова Е.В. Хорошая речь врача как залог успешного профессионального сотрудничества//Достижения и перспективы медицины: сборник статей международной научно-практической конференции. Научный центр «Аэтерна», 2014. С. 10-14.
- Старость в современном Российском обществе: интеробъективный и интерсубъективный контексты/Елютина М.Ю., Мельникова Н.И., Смирнова Т.В., Козлова Т.З., Штейнберг И.Е., Чернышкова Е.В. и др.: монография/под ред. М.Э. Елютиной. Саратов: Саратовский гос. тех. ун-т, 2010.
- Седова Н.Н. Досуговая активность граждан//Социологические исследования. 2009. №12. С. 56-68.
- Храмова Ю.А. Риск как стратегическое направление развития человека и общества//Интеграция науки и практики как механизм развития современного общества: Сборник научных статей/под ред. проф. Ю.Г. Голуба. Саратов, 2013. С. 284-287.
- Чернышков Д.В., Андриянова Е.А. Специфика социализации в медицине: теоретические обоснования//Журнал научных статей Здоровье и образование в XXI веке. 2016. Т. 18. № 2. С. 394-397.
- Чернышков Д.В., Андриянов С.В. Личностный рост специалиста в контексте профессиональной социализации//Вопросы современной педагогики и психологии: свежий взгляд и новые решения: сборник научных трудов по итогам междунар. науч.-практич. конф. Екатеринбург, 2015. С. 97-100.
- Чернышков Д.В., Юрова И.Ю., Андриянов С.В. Теоретические основания рассмотрения понятия «здоровьесбережение» в социологии медицины//Актуальные вопросы медицины в современных условиях: сборник научных трудов по итогам междунар. науч.-практич. конф. СПб., 2016. С. 111-113.
- Чернышкова Е.В. Медико-социальные механизмы пролонгирования активного образа жизни в пожилом возрасте: дис. … д-ра социол. наук. Волгоград, 2013. 448 с.
- Чернышкова Е.В. Статусные характеристики пожилых людей: экономический аспект//Вестник Челябинского государственного университета. 2008. №32. С. 175-181.
- Amman A. Bericht zur Lebenssituation älterer Menschen in Österreich: Eine Synthese//Bundesministerium für Soziale Sicherheit und Generationen. Wien, 2000. S. 586-609.
- Leichsenring K. Strumpel, B. Soziale Losungen vor Ort-Neue Wege der kommunalen Sozialpolitik. Wien: Renner Institut, 1999. 104 s.
- Walker A.A. Strategy for Active Ageing//International Social Security Review. 2002. Vol. 55. №1. P. 121-139.
- Walker A., Naegele G. The Politics of Old Age in Europe. Buckingham: Open University Press, 1999. 230 p.