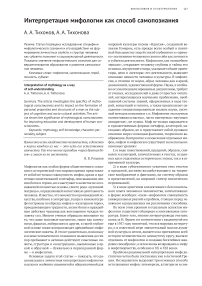Интерпретация мифологии как способ самопознания
Автор: Тихонов Александр Александрович, Тихонова Анна Александровна
Журнал: Поволжский педагогический поиск @journal-ppp-ulspu
Рубрика: Философия и культурология
Статья в выпуске: 2 (8), 2014 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию специфики мифологического сознания и его воздействия на формирование личностных свойств и структур человека как субьекта познания и социокультурной деятельности. Показано значение мифологического сознания для совершенствования образования и развития самосознания человека
Мифология, самопознание, герой, личность, субъект
Короткий адрес: https://sciup.org/14219401
IDR: 14219401
Текст научной статьи Интерпретация мифологии как способ самопознания
Язычество есть младенчество человечества, а детство в жизни каждого из нас — это есть его естественное язычество. Так что мы все проходим «через древних богов» и знаем их по инстинкту.
В. В. Розанов
Мифология как особая форма общественного сознания и исторический тип мировоззрения представляет собой не только совокупность мифов, ярких и красочных повествований и метафор, описывающих деяния богов и героев, но и выступает в качестве не осознаваемой полностью основы, своего рода «духовной матрицы», определяющей когнитивную деятельность человека. Известно, что множество произведений искусства, особенно в литературе, театре и кинематографе построены по образцу мифов о «культурном герое», преодолевающем трудности, козни богов и враждебные действия чудовищ как воплощения чуждых человеку сил. Многие ученые обращали внимание на то, что даже массовые идеологии, такие как коммунизм, фашизм, либерализм и другие, в своей глубинной основе также воспроизводят древнейшие мифологические сюжеты. И это не удивительно, поскольку в основе человеческого сознания и мышления до сих пор пребывают и активно действуют смысловые сюжеты, структуры и «конструкции», выявленные в яркой и образной — буквально в первозданной форме — в мифологии.
Основная задача этой статьи — показать, что рациональная и личностная интерпретация мифологии в целом и особенно знаменитой и общезначимой для мировой культуры поэмы «Одиссея», созданной великим Гомером, есть прежде всего особый и понятный большинству людей способ глубинного и «прямого» постижения человеком самого себя как личности и субъекта деятельности. Мифология, как «волшебное зеркало», открывает человеку глубины и тайны его психики, внутреннего мира, указывает общие ориентиры, цели и «векторы» его деятельности, выявляет основные ценности человека и культуры. В мифологии, в отличие от науки, образ человека дан в яркой, динамичной, художественной форме. Наука, и особенно ее узкоспециализированные дисциплины, требует от ученых, исследователей и даже от простых читателей, интересующихся научными проблемами, необходимой системы знаний, оформленных в виде теорий, концепций и гипотез, а также предполагает овладение специализированным языком науки, системой методов познания и т. п. Мифологии эта научная «когнитивная оснастка», часто именуемая «научным аппаратом», не нужна. Миф не только выражается в художественных формах метафор, аллегорий, наглядных образов, но и представляет собой духовное освоение мира с помощью фантазии, творческого воображения. Восприятие и осмысление отдельных мифов, мифем и мифологем существуют на нескольких основных уровнях:
-
1) в виде повествований, преданий, образов, символов и аллегорий, запечатленных в текстах, созданных как в отдаленных исторических эпохах, так и в современной культуре;
-
2) в виде субъективного усвоения этих текстов и преданий, активно воздействующего на творческое воображение и фантазию, на систему образов и представлений, на широкий спектр психических переживаний;
-
3) в виде архетипов коллективного бессознательного опыта человека и человечества, запечатлевших в форме всеобщих «схем»-мифологем совокупность универсальных реалий и проблем, стоящих перед человеком и разрешаемых им различными способами.
По всем этим уровням и отдельным аспектам мифологии существует обширная и многовековая литература. Более того, многие литературоведы считают, вслед за Н. Фраем и в соответствии с выдвинутой им еще в 1957 году гипотезой, что вся мировая литература, и в известной мере значительный массив духовной культуры в целом, движется на протяжении всей истории человечества по замкнутому кругу, вначале отделяясь от мифологии и создавая богатейшее жанровое своеобразие, а затем вновь возвращаясь к мифу и мифотворчеству, особенно в XX и ХХI веках.
Проблема рациональной интерпретации мифа достаточно четко была поставлена уже в Античной Греции. Исследователи выделяют три основных способа истолкования мифов: эвгемеризм, аллегоризм и сим- волизм [1, с.33–35]. Эвгемеризм как течение связан с именем философа III века до н. э. Эвгемера, который считал, что мифические образы есть лишь обожествление реальных исторических и политических деятелей древности. Аллегоризм рассматривал мифы как иносказания, в которых некоторые рациональные знания и истины выражались с помощью метафор и мифологических образов, имеющих всего лишь вспомогательное, облегчающее восприятие значение. Наиболее глубока и интересна попытка символической интерпретации мифов. Символ по своей природе есть единый «смыслообраз», в котором взаимодействуют идеальные и материальные стороны, универсальность смысла и уникальность художественного образа. В философском смысле символ часто определяют как некий уникальный образ, обладающий общей знаковостью, и вместе с тем как знак, наделенный всей органичностью и неисчерпаемостью образа. Предметный образ и глубинный смысл выступают в структуре символа в качестве двух взаимодействующих полюсов, порождающих многозначность и универсальность символа. И действительно, если мы попытаемся понять смысл самого имени Одиссея, которое стало с древних времен не просто именем собственным, но и одновременно нарицательным, превратилось в определенную загадку и «шифрограмму», в символ любого путешествия, последовательности приключений, жизни и судьбы человека, то в конечном счете мы убедимся, что каждый человек, плывущий по своему «житейскому морю», также заслуживает этого имени и символа. Далеко не случайно, что многие художественные произведения или впрямую называются «одиссеей» (капитана Блада, Улисса и т. п.) или по своей сути являются описанием путешествий и приключений («Путешествия Гулливера», «Песнь о Гайавате», «Моби Дик», «Мертвые души», «Хождение по мукам» и множество других известных книг).
Издревле высказывались мысли о близости мифологии и философии. Еще Аристотель утверждал, что «и теперь и прежде удивление побуждает людей философствовать», и поэтому «тот, кто любит мифы, есть в некотором смысле философ, ибо миф создается на основе удивительного» [2, с. 69].
Для нормального развития личности и общества необходимы и философия как высшее и рациональное мировоззрение, и философствование как самостоятельное исследование и «конструирование» смыслов, идей, теорий, без которых невозможно духовное освоение мира. Именно поэтому для большинства людей характерны самостоятельные размышления в предельно широкой, «смыслообразной» форме, которая определяется нами как мифопоэтическое философствование. Этот способ и особый стиль рассуждения включает в себя наиболее значимые и эффективные формы и приемы духовного освоения мира, такие как мифология в ее разнообразных вариантах и формах, поэзия, исходным эпическим образцом которой является «Одиссея» Гомера, и философия во всем многообразии своих течений и учений, но преимущественно выраженная не в открытой, а в неявной, «закулисной» форме основных идей феноменологии, «имаги- тивной логики», диалектики, герменевтики и т.п. Весь этот синтез не требует от читателя специальной и глубокой подготовки и вызывает у многих специалистов массу критических замечаний и упреков в профанации и дилетантизме. Однако известно, что слово «дилетант» происходит от латинского «дилетте», что означает «любитель», но и «любитель» в свою очередь происходит от слова «любовь», выражающего фундаментальное отношение субъекта к миру и состояние души, которые крайне необходимы как современной России, так и каждому отдельному человеку. Каждый знает, что философия — это любовь к мудрости, а мифология — её предтеча и предпосылка.
Мифопоэтический — открытый и синкретический способ мышления и философствования неизбежно носит эвристический и вариативный характер. Сама сущность метафор, символов и аллегорий как бы принуждает человека к многообразию их восприятия, истолкования и понимания. Авторы осознают, что их трактовки отдельных сюжетов и героев могут вызывать сомнение и критику со стороны мыслящих читателей. Но задача статьи и опубликованных нами ранее книг «Одиссея разума и разум Одиссея» [3] и «Мифологема женщины: гендерные аспекты» [4] состоит не в навязывании единого мнения или догматической интерпретации мифологем, а, напротив, в неком пробуждении разума, в повышении эвристического потенциала сознания и мышления каждого человека. Мифология как синкретическая форма познания направляет разум читателя в бесконечное странствие, в своеобразную одиссею. Известный английский писатель и мыслитель Г. К. Честертон утверждал: «Тот, кто не любит мифов, не любит людей». Эту мысль можно несколько модифицировать и придти к выводу, что неприязнь к мифам и мифологии способна существенно затруднить не только любовь к другим людям, но и познание специфики человеческого бытия и привести к определенным деформациям в самосознании отдельных людей и сообществ.
В своей существенной и фундаментальной определенности человек как субъект деяния и познания представляет собой как бы живую мифологию, в большей мере символически-субъективную, чем органи-чески-объективную реальность. Известный русский мыслитель А. Ф. Лосев прямо писал, что «всякая живая личность есть так или иначе миф...». Далее он отмечал, что «личность есть миф не потому, что она — личность, но потому, что она осмыслена и оформлена с точки зрения мифического сознания» [5, с. 76]. В этих кратких, но глубоких по смыслу высказываниях можно выявить ряд идей. Фундаментальные структуры личности формируются в детстве, для которого характерно доминирование наглядно-образного и синтетического «смысло-образного» восприятия мира. Детская мифология существует во всех, в том числе и в высокоразвитых культурах. Ранние стадии приобщения к литературе и к основным формам общественного сознания насыщены мифологическими сюжетами в сказках, былинах, эпосе и т. п. Но самое главное, что само содержание психических процессов, основные компоненты и структуры субъекта, личности и психики в целом не могут быть полностью осмыслены и поставлены под контроль с помощью научного — объективного, закономерного, дискурсивно-логического познания. «Имагитивная логика», о которой писал Я. Голосовкер, основана на активном воображении, творческой фантазии и в этом качестве близка к мифопоэтическому мышлению. Даже для взрослых людей чрезвычайно трудно мыслить о самом себе строго объективно, тяжело признавать, что «мы лишь таковы, каковы мы есть, и более никаковы». Более того, не только современное человечество, но и все сообщества на протяжении обозримой истории постоянно продуцировали и активно распространяли всевозможные мифологемы, особенно в сферах искусства, политики, идеологии и т. п. Процессы и тенденции очередной «ремифологизации культуры», о которых зачастую с тревогой пишут многие ученые, происходили неоднократно.
В современной России также существуют определенные тенденции и метаморфозы в сфере мифологического сознания. Так, министр культуры В. Р. Мединский в своих книгах прямо пишет о необходимости создания и активной пропаганды «позитивной мифологии», которая, по его мнению, «определяет нравственные императивы народа, мотивирует его на свершение дел мощных и добрых» [6, с. 657]. И он во многом прав. Дело в том, что Россия как «этнографическая утроба» (А. Герцен) на ранних этапах своего развития и на основе древнеславянской, финно-угорской, тюркской и других мифологий не смогла создать достаточно целостную и красочную мифологическую картину мира, сопоставимую с древнегреческой и древнеримской мифологиями. Христианизация Руси при всех её достоинствах и культурных достижениях приводила к конфронтации с «погаными язычниками». (Слово «поганый» не является, кстати, оскорбительным, его этимология восходит к римскому понятию «деревенский»). И хотя массовое, характерное для России, явление «двоеверия» сохранялось на протяжении столетий, вплоть до ХХ века, в общественном сознании христианство вытесняло и подавляло мифологию как своего конкурента в «идеологической борьбе».
Социалистическая революция, её реальные субъекты и движущие силы сформировали не только тоталитарное государство, но и квази-религиозную коммунистическую идеологию, внешним образом активно подавляющую как религию, так и мифологию, но при этом тщательно скрывающую свои внутренние и глубинные связи с мифологическим и религиозным сознанием. Для российского менталитета на протяжении множества веков было характерно определенное «шараханье из крайности в крайность», оказывающее негативное воздействие на преемственность культурного развития и на кумулятивный рост социокультурного опыта. Многие философы и ученые уже в ХIХ веке обращали внимание на противоречивость развития российского общества и менталитета. И даже современные авторы отмечают, что «определенная антиномичность свойственна любому национальному характеру, однако, пожалуй, трудно найти другой народ, который так же легко переходил из крайности в крайность, как русские, жизнь которых подчинена «закону маятника» [7, с. 120]. Этот «закон маятника» в сферах духовной жизни приводит зачастую к осознанному отказу, а также к неизбежному и массовому забвению не только многих ценностей культуры, но и значимого содержания таких форм общественного сознания как мифология, религия, мораль, искусство и т. п. Ослабевшая и «распавшаяся связь времен» в области гуманитарной культуры неизбежно приводит к определенному «расчеловечиванию человека», к дальнейшему обострению антропологического кризиса. Как известно, основным содержанием всех дисциплин, преподаваемых в средней и высшей школе, являются отдельные, наиболее значимые науки и все основные формы общественного сознания, исключая мифологию. По каким-то не вполне понятным причинам мифология как исходная и фундаментальная форма общественного сознания ни в средней, ни в высшей (исключая, конечно, узкоспециальное образование для малого количества студентов и профилей подготовки) школе в настоящее время не преподается, даже в виде обзорных лекций и факультативных занятий. В классических же гимназиях царской России, судя по художественной и мемуарной литературе, в той или иной форме преподавалось и изучалось основное содержание древнегреческой и древнеримской мифологии.
Значение классической мифологии для развития самосознания и личностных качеств человека трудно переоценить.
Еще великий философ Античной Греции Аристо-кл, более известный по своему «говорящему» прозвищу — второму имени как Платон, что означало «обширный», «широкий», утверждал, что «Гомер воспитал всю Грецию». И хотя Платон писал о нежелательности для идеального государства «подражательной поэзии», он все же вынужден был признать свою «любовь к Гомеру и уважение к нему», владеющие им с детства, а также высказать мысль о том, что Гомер — «первый наставник и вождь всех великолепных трагедийных поэтов» [8, с. 421].
Известно, что всем культурам и цивилизациям присущи некие фундаментальные исходные и сакральные тексты, лежащие в основе систем ценностей, идей, доминирующих метафор и представлений данных культур. Библия, Трипитака, Веды, Коран, И Цзин и другие знаменитые книги до сих пор существенно воздействуют на духовную культуру человечества в целом и отдельных стран и народов.
Многие ученые считают, что первоосновой разнообразной, динамичной европейской культуры в историческом и духовном аспекте является культура Античной Греции, а также своеобразный «диалог Афин и Иерусалима». При этом свод «сакральных» текстов и книг, дошедших до нас, размыт и неопределенен, поскольку античная мифология начала формироваться еще в дописьменный период и прошла длительный путь развития в неявной форме устного творчества и воспроизводства традиций. Гесиод в своих поэмах «Теогония» и «Труды и дни», а также Гомер в «Илиа- де», «Одиссее» и менее известных массовому читателю гимнах создали первые эпические произведения, в которых нашло свое выражение миросозерцание античных греков VIII–VII в.в. до новой эры. Сочинения более поздних, в том числе и современных авторов — философов, историков и литераторов — широко используют образы, идеи и сюжеты Гомера и Гесиода.
Из яркого и богатого спектра древних и сакральных текстов выделяется «Одиссея» Гомера в силу своего гуманизма, «соразмерности» человеку и близости к жизни каждого из нас. Трудно поставить себя на место Сиддхартхи Гаутамы, ставшего Буддой и Татхага-той, почти невозможно сравнить и тем более отожествить себя с Иисусом Христом или Магометом, но очень легко и просто можно представить себя Одиссеем, плывущим мимо острова сирен, разговаривающим с Афиной Палладой и своим отцом Лаэртом, сражающимся в Трое, ослепляющим Полифема и т.п.
Гениальность великих поэм Гомера многомерна и проявляется в их поэтическом совершенстве, глубине и яркости мысли, в понимании тайн человеческого бытия, в их гармонии и «соразмерности» человеку. Именно поэтому А. Нейхардт в предисловии к «Одиссее» пишет, что «среди многочисленных литературных произведений античного периода, дошедших до наших дней, ни одно не оказало такого глубокого и всеобъемлющего влияния на дальнейшее развитие общечеловеческой культуры, как гомеровские «Илиада» и «Одиссея» [9 , с. 8].
В. А. Жуковский — переводчик «Одиссеи» — невольно привнес в русский текст свойственный ему романтический стиль, несколько исказив строгость и ясность изложения самого Гомера. Однако «диалог поэтов» через века и культурные барьеры может приводить и к плодотворным результатам, своего рода поэтическим открытиям. Так, буквальный перевод имени «Одиссей» — «гневный» — был скорректирован В. А. Жуковским на близкое русское слово «сердитый», которое в «семантическом поле» русского языка органически связано с понятиями «сердце», «середина», «средоточие». Имя Одиссея стало более емким и содержательным, а его образ стал для нас более «сердечным» и близким, более понятным.
Мифология, как известно, преобразует сущности в существа, персонифицирует различные силы, стихии и сферы бытия. В этом аспекте поэму Гомера можно рассматривать как мифологический по форме и философский по смыслу и сущности «путеводитель» по мировоззренческой проблематике, своего рода прото-учебник по основным проблемам жизни человека и его отношениям с окружающим миром. Герой любого мифа, есть, прежде всего, субъект деяния. Появление мифов о культурном герое показывает степень зрелости самосознания человека античной культуры. Задолго до появления Сократа и изречения дельфийского оракула «Познай самого себя» мифология ставила и разрешала своими образно-метафорическими, аллегорическими и символическими средствами и способами проблему самопознания и адекватного самосознания, целостной самоидентичности. «Одиссея», по нашему мнению, — первая в истории куль- туры и до сих пор во многом непревзойденная, буквально героическая попытка самопознания человека, действующего, страдающего и странствующего не только по «лазурнокудрявому» Средиземному морю, но и по «морям и океанам» смысла, фундаментальных ценностей, идей и идеалов.
Античные мифы «населены» множеством героев. К числу наиболее известных из них каждый может отнести Геракла, Тесея, Ахилла, Ясона и других. Мифические герои, как правило, имели свое особое призвание и предназначение и даже определенную специализацию. Так, Геракл воплощает и символизирует могущество, прежде всего, физическую силу и боевую мощь человека в борьбе с многочисленными противниками. Даже его «детское», исходное имя Алкид связано с понятиями могущества, силы, храбрости, крепости и т.п. Само переименование Алкида в Геракла выражает в символической форме его инициацию, переход на иной уровень и способ бытия в качестве могущественного героя. Тесея можно несколько осовременить и представить в качестве героя рефлексии, самопознания, неизбежно сталкивающегося в лабиринтах своего бессознательного уровня психики с «минотаврами» разрушительных страстей, злобы и т.п.
Одиссей в этом ряду героев занимает особое, даже исключительное место. Одиссей — это персонификация интеллекта, «многохитростный муж Лаэртид благородный», — некая идеальная модель человеческого разума, понимаемого в качестве самостоятельного существа и культурного героя. В отличие от богини Афины Паллады, символизирующей совершенную, идеальную мудрость, свободную от ошибок, пороков и страстей, Одиссей наделен земными грехами и страстями в полной мере. Однако Одиссею присуща философия в прямом смысле этого слова — любовь к мудрости и к ее божественному воплощению — Афине Палладе. И эта любовь находит взаимность: любовь Афины Паллады к Одиссею общеизвестна. В поэме Нестор, «герой геренейский», в разговоре с Телемахом впрямую говорит: «Никогда не бывали столь боги в любви откровенны, сколь откровенна была с Одиссеем Паллада Афина!» [9, с. 221-222]. Близость и взаимная симпатия Афины и Одиссея ярко показана в поэме в многочисленных сценах их встреч и прямых диалогов, в описании заботы и опеки со стороны Афины как высшей мудрости по отношению к реальному, «земному» разуму Одиссея.
Сам процесс познания можно рассматривать как длительный и полный опасностями и злоключениями путь героя — персонифицированного разума к своей цели и родине. Познание есть реальная одиссея разума. Цель познания по самой своей природе многозначна и многомерна, и это хорошо описано и как бы развернуто в мифологическом и метафорическом плане в поэме Гомера. Непосредственной и географической целью Одиссея является его родина — «солнечносветлый остров» Итака.
На острове Итака Одиссея ждут жена Пенелопа и сын Телемах, царская власть и отец Лаэрт, возможность отмщения «женихам» Пенелопы и масса других дел и задач. Все эти цели и задачи органическим образом входят в состав «сверх-задачи» Одиссея — установления порядка и восстановление справедливости на всех уровнях его жизни и бытия в целом. Эта «сверх-задача» Одиссея ставит его на уровень не только героев, но и античных богов, преобразующих Хаос в Космос, в борьбе с хтоническими сущностями и существами формирующих организованное и совершенное бытие. Для достижения своих целей Одиссею необходимо восстановление себя в статусе басилея — царя (точнее — военного вождя) острова и народа Итаки, то есть центрального и господствующего места и статуса субъекта познания и деяния. Строго говоря, все основные ипостаси и персонификации персонажей мифов в качестве героев, царей и богов являются лишь метафорическими образами главного способа бытия человека в мире — субъекта деяния и познания, который и является в конечном счете творцом жизни и гарантом гармоничности, упорядоченности мироздания.
Проблема сущности и структуры субъекта и субъективной реальности относится к числу «вечных» и фундаментальных проблем философии и всего комплекса гуманитарных наук. Однако многие идеи, образы и метафоры мифологического сознания задолго до философии и науки, были «разработаны» и выражены, исходя из глубокого и эвристического понимания сущности субъекта. Известно, что в философии субъект описывается и объясняется как органическое и синергетическое единство биологических, психологических, социокультурных и личностных качеств и способностей. Мифология дает более глубокое, яркое и красочное понимание структуры и основных факторов становления субъекта. Как известно, одним из главных принципов объяснения мира в целом и отдельных сущностей-существ в мифологии является пангенетизм, то есть объяснение чего-либо через процессы его порождения. Одиссей «Лаэр-тович» своей знаменитой родословной показывает основные факторы становления и структурные уровни субъекта. Расположение в цепочку его родителей и прародителей дает нам чёткую последовательность персонажей «мифа о субъекте». Предками Одиссея являются:
Отец Лаэрт — дед Аркесий...
Мать Антиклея — дед Автоликон — и далее — Гермес — Зевс — Крон — Уран — Гея — Хаос
Родословная Одиссея также может быть вполне корректно и рационально истолкована в качестве метафоры основных уровней субъективной реальности и самосознания. Сам Одиссей — субъект познания, в средоточии, в «сердце» которого существуют и взаимодействуют одновременно не только его «сердитость», то есть психические процессы, эмоции, переживания, мысли и т.п., но и вся его «родословная», фактически все уровни и сущности бытия, выраженные в метафорической форме его «предками» — «существами». В Одиссее как субъекте слиты воедино онтогенез и филогенез, «историческое» и «логическое», «генетическое» и «структурное», первоначала и факторы.
Его отец Лаэрт — не только непосредственный его родитель, даровавший жизнь и свой геном Одиссею, но и царь-басилей Итаки, передавший по наследству Одиссею свой социокультурный статус и царский сан.
Его дед по линии матери Автоликбыл известным разбойником, клятвопреступником, хитрецом и даже оборотнем. Само имя Автолика говорит за себя: «авто» — само, «лик» — волк, то есть человек-волк, оборотень. И этот образ-тотем легко интерпретируется как единая био-социальная природа человека.
Прадед Одиссея — бог Гермес — персонифицирует собой информацию, знания, «божественные вести». В поэме он впрямую и неоднократно помогает Одиссею, действуя зачастую заодно со своей могущественной сестрою — «светлоокой» Афиной Палладой.
Прапрадед Одиссея — сам великий «владыка Олимпа Зевс-громовержец, тучегонитель, эгидоноситель, скипетродержец» и т.п. Образ Зевса в его личностно-психологической ипостаси коррелирует с энергией и могуществом человека, с его властью над самим собою, его деятельностью, борьбой с невзгодами и врагами.
Пра-пра-прадед Одиссея — бог времени Крон, не только порождающий своих «детей» — различных существ и сущностей, но и пожирающий их, уничтожающий разнообразные формы бытия самим потоком времени.
Пра-пра-пра-прадед Одиссея — полузабытый Уран — могущественный бог, принадлежащий к древнейшему поколению богов и понимаемый зачастую как персонификация неба, беспредельного небосвода и зачастую как безграничную энергию.
Пра-пра-пра-прабабушка Одиссея — первобогиня Гея олицетворяет не только землю и Землю — первооснову жизни и нашу планету, но и в общесмысловом плане — материю как субстанцию всех форм бытия. Органично связаны во многих индоевропейских языках слова и понятия: материя, материал, материк, матрица, матерый и самое значимое в нашей «родословной» — матерь. Гея как праматерь всего сущего — глубинная первооснова всего происходящего в поэме и странствии Одиссея.
Первопредок всего сущего, согласно античной мифологии, Хаос ничего не олицетворяет и не персонифицирует. Ему присущи атрибуты вечности, безграничности, неупорядоченности и т. п. Хаосу ничего не предшествует, он сам по себе — «безосновная основа» бытия. Не случайно в философии Я. Бёме и Н. А. Бердяева представление о первооснове бытия как «непостижимой бездне» во многом напоминает античный смысло-образ Хаоса.
Известный русский философ Н. А. Бердяев был прав, утверждая, что «человек есть существо многоэтажное». Структурные уровни субъективной реальности, имплицитно содержащиеся в родословной и самой архитектонике личности Одиссея, подтверждают правоту Н. А. Бердяева, но мифология задолго до философии не только осознавала «многоэтажность человека», но и достаточно точно и ярко описала выявленные ею уровни и «этажи» человеческого бытия.
Реально в нашей психике, жизни и судьбе ежедневно происходит зарождение организованного, упорядоченного, в идеале — прекрасного Космоса — из первозданного и темного Хаоса. И каждый из нас, как Тесей, неоднократно вступает в борьбу и поражает своих Минотавров — чудовищ и монстров, живущих в лабиринтах и подвалах нашей психики. Человек — субъект и личность — формируется и действует как мифический культурный герой и герой современной культуры. По-видимому, в понимании тесной связи мифологии и нашей жизни и состоит важная задача ремифологизации нашего сознания и пробуждения наших творческих возможностей.
Список литературы Интерпретация мифологии как способ самопознания
- Осаченко Ю. С., Дмитриева Л. В. Введение в философию мифа. М.: 1994.
- Аристотель. Метафизика. Соч. т. I, М.: 1976.
- Тихонов А. А. Одиссея разума и разум Одиссея. Ульяновск: 2003.
- Тихонова А. А. Мифологема женщины: гендерные аспекты. Ламберт. 2014.
- Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. М.: 1991.
- Мединский В. Р. Война. Мифы СССР.1939-1945. М.: 2012.
- Юревич А. В. Психология и методология. М.: 2005.
- Платон. Государство. Соч. т.3, М.: 1971.
- Гомер. Одиссея. Пер. с древнегреч. В. А. Жуковского. М.: 1993.