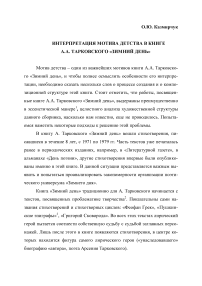Интерпретация мотива детства в книге А. А. Тарковского «Зимний день»
Автор: Казмирчук Ольга Юрьевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Статьи и сообщения. Прочтения
Статья в выпуске: 1 (2), 2006 года.
Бесплатный доступ
Анализ лирики, книга стихотворений, мотив детства, арсений тарковский
Короткий адрес: https://sciup.org/14913965
IDR: 14913965
Текст статьи Интерпретация мотива детства в книге А. А. Тарковского «Зимний день»
В книгу А. Тарковского «Зимний день» вошли стихотворения, писавшиеся в течение 8 лет, с 1971 по 1979 гг. Часть текстов уже печаталась ранее в периодических изданиях, например, в «Литературной газете», в альманахе «День поэзии», другие стихотворения впервые были опубликованы именно в этой книге. В данной ситуации представляется важным выявить и попытаться проанализировать закономерности организации поэтического универсума «Зимнего дня».
Книга «Зимний день» традиционно для А. Тарковского начинается с текстов, посвященных проблематике творчества2. Показательны сами названия стихотворений и стихотворных циклов: «Феофан Грек», «Пушкинские эпиграфы»3, «Григорий Сковорода». Во всех этих текстах лирический герой пытается соотнести собственную судьбу с судьбой заглавных персонажей. Лишь после этого в книге появляются стихотворения, в центре которых находится фигура самого лирического героя («унаследовавшего» биографию «автора», поэта Арсения Тарковского).
Интересующий нас тематический блок4 открывается стихотворением о рождении лирического героя: «Душу, вспыхнувшую на лету, / Не увидели в комнате белой, / Где в руках милосердных колдуний / Нежно теплилось детское тело» (1. 335)5. Рассказ о рождении сменяется описанием мира, в который вошел герой: «Дождь по саду прошел накануне, / И просохнуть земля не успела; / Сколько было сирени в июне…» (1. 335). Внешний мир, воссозданный в стихотворении А. Тарковского, претерпевает изменения и как будто бы тоже рождается заново. Таким образом, уже в момент рождения лирический герой чувствует свою связь с внешним миром, вселенной: «…Что судьба моя и за могилой / Днем творенья, как почва, прогрета» (1. 335). Примечательно, что в финале объединяются мотивы рождения и смерти, тем самым тема смерти утрачивает свою трагичность.
Нетрудно заметить, что в стихотворении «Душу, вспыхнувшую на лету…» конкретно-биографические мотивы переплетаются с мифологическими и фольклорными6. Например, возникновение мотива лета, месяца июня, «продиктовано» биографией самого поэта: А. Тарковский родился 25 июня, и эта дата не раз обыгрывалась в лирике поэта (ср. стихотворения «25 июня 1935 года» и «25 июня 1939 года» из книги «Гостья-звезда»).
Если конкретно-биографический план присутствует в стихотворении «Душу, вспыхнувшую на лету…» благодаря упоминанию месяца июня, то большинство других мотивов (дождя, земли) восходят к фольклорной традиции и ассоциируются с актом рождения. Таким образом, жизнь лирического героя с самого ее начала «вписывается» в более широкий, «вселенский» контекст 7 .
Следующее стихотворение книги «Зимний день» представляет собой попытку лирического героя создать некий пусть иллюзорный, но гармоничный мир, «рожденный», «созданный» лирический герой сам учится создавать8: «Был домик в три оконца / В такой окрашен цвет, / Что даже в спектре солнца / Такого цвета нет. / …Я верил, что из рая, / Как самый лучший сон, / Оттенка не меняя, / Переместился он» (1. 336).
В другом стихотворении, «Еще в ушах стоит и гром и звон…», лирический герой пытается найти гармонию уже в реальном мире. Характерно начало стихотворения; в 1-ой строфе, состоящей всего из двух строк, передаются вполне конкретные ощущения: «Еще в ушах стоит и гром и звон: / У, как трезвонил вагоновожатый!» (1. 338). Разговорная форма, эмоциональная окраска позволяют читателю сразу оказаться внутри конкретной ситуации.
Далее описывается пространство, в котором совершаются события, и называются герои: «Туда ходил трамвай, и там была / Неспешная и мелкая река – / Вся в камышах и ряске. / Я и Валя / Сидим верхом на пушках у ворот / В Казенный сад, где двухсотлетний дуб…» (1. 338). Благодаря столь подробному, точному описанию, становится очевидным, что Тарковский рассказывает о собственной жизни: Валерий Тарковский – старший брат Арсения Тарковского, Казенный сад – сад в Елизаветграде, где жила семья Тарковских9 .
После этого еще раз уточняется время и место: «Июнь сияет над Казенным садом». Такая информация казалось бы излишней, но, как уже отмечалось, июнь – особый, знаковый мотив в поэзии Тарковского, мотив июня имплицитно содержит в себе темы детства и судьбы. Заметим, тема детства была заявлена и ранее: эмоциональная окраска восклицания: «У, как трезвонил вагоновожатый!»; описание героев: «Я и Валя / Сидим верхом на пушках у ворот».
Далее в центре внимания оказывается музыка, звучащая в саду10: «Труба бубнит, бьют в барабан, и флейта / Свистит, но слышно, как из-под подушки: / Вполбарабана, вполтрубы, вполфлейты» (1. 338). Музыка звучит не в полную силу, она как будто недовоплощена. Причиной подобного «недовоплощения» могли бы являться указанный в начале стихотворения звон трамвая, либо пространственная удаленность героев (они сидят у ворот сада). Однако у этой «приглушенности» есть и другое объяснение; «недовоплощенности» музыки соответствует недовоплощенность жизни героев: «но слышно, как из-под подушки: / Вполбарабана, вполтрубы, вполфлейты / И в четверть сна, в одну восьмую жизни» (1. 338). Героями стихотворения являются дети, их судьба еще не ясна, жизнь лишь начинается.
Мотив детства, имплицитно уже присутствующий в стихотворении, ложится в основу заключительной строфы. Здесь он в первую очередь реализуется в тщательном описании деталей одежды героев-мальчиков: «Мы оба / (в летних шляпах на резинке, / В сандалиях, в матросках с якорями)…» (1. 338). На фоне этих бытовых подробностей еще трагичнее звучит тема судьбы этих героев: «…Еще не знаем, кто из нас в живых / Останется, кого из нас убьют, / О судьбах наших нет еще и речи, / Нас дома ждет парное молоко» (1. 338–339).
Соотнесение двух мотивов, рождения и судьбы, намечалось в финале уже рассмотренного стихотворения «Душу, вспыхнувшую на лету…», и там же в эту семантическую цепочку встраивался мотив смерти: «…Что судьба моя и за могилой / Днем творенья, как почва, прогрета» (1. 335). Но если в первом случае трагичность темы смерти снималась соседством мотива рождения и общим контекстом стихотворения, то теперь семантическая соотнесенность понятий «детство» и «смерть» приобретает совершенно иную эмоциональную окраску.
Мотив знания и незнания судьбы разделяет героев стихотворения Тарковского «Еще в ушах стоит и гром и звон…», благодаря чему субъектная структура стихотворения заметно усложняется. Герои-мальчики не знают собственной судьбы, лирическому герою известна и его собственная судьба, и судьба брата. Подобное «знание» имплицитно заявлено в мотиве убийства, в намеченной альтернативе: «…кто из нас в живых / Останется, кого из нас убьют». Лирический герой из своего настоящего уже знает, что брата Валю убьют. Во время гражданской войны 15-летнего Валю Тарковского случайно убили на улице11, Арсений Тарковский участвовал во второй мировой войне и остался в живых.
Так тема судьбы и тема смерти, заявленные в финале стихотворения «Еще в ушах стоит и гром и звон…», обнажают еще одну проблематику: проблему времени12 . Стихотворение, которое, как уже говорилось, сразу вводит читателя в конкретную ситуацию, оказывается стихотворением-воспоминанием (несмотря на преобладание глагольных форм настоящего времени). Лирический герой знает будущее героев-мальчиков, поскольку оно для него самого их настоящее (Казенный сад) и даже будущее уже стало прошлым.
Итак, в стихотворении «Еще в ушах стоит и гром и звон…» детство героев предстает как еще не воплотившаяся, не реализовавшаяся, только начатая жизнь. В финале возникает вопрос о дальнейшей судьбе героев, которая вновь соотносится с вечным, вселенским контекстом.
Если в стихотворении «Душу, вспыхнувшую на лету…» эта соотнесенность четко обозначена, то в данном тексте она скорее подразумевается. Тарковский дважды, в начале стихотворения и в конце, описывает природный мир: сначала упоминается река и двухсотлетний дуб13 , в финале -бабочки и ласточки. Река и дуб могут восприниматься как конкретные элементы пейзажа, но эти же мотивы традиционно символизируют жизнь, смерть и бессмертие.
Та же семантическая цепочка еще очевидней в финале стихотворения: «О судьбах наших нет еще и речи, / Нас дома ждет парное молоко, / И бабочки садятся нам на плечи, / И ласточки летают высоко» (1. 339). Ласточки и бабочки традиционно символизируют душу человека, и А. Тарковский не раз использовал эту символику, ср., например, финальное обращение к бабочке из написанного в 1945 г. стихотворения «Бабочка в госпи- тальном саду»: «Пожалуйста, не улетай, / О госпожа моя, в Китай! / Не надо, не ищи Китая, / Из тени в свет перелетая. / Душа, зачем тебе Китай? / О госпожа моя цветная, / Пожалуйста, не улетай!» (1. 133).
В стихотворении «Еще в ушах стоит и гром и звон…» лишь ставится вопрос о судьбе героев-мальчиков, а в следующем тексте, «Жили-были», описывается их судьба.
Стихотворение «Жили-были» начинается с характеристики страшной жизни России 19-го года: «Вся Россия голодала, /…Стулья, шапки, что попало / На пшено и соль меняла / В девятнадцатом году» (1. 340). Точно названа дата описываемых событий – 1919-й год.
Рассказ о судьбе России в целом сменяется рассказом о судьбе лирического героя и его семьи, в этих фрагментах отчетливо доминирует мотив смерти: «Брата старшего убили» (вот сбывшаяся судьба брата Вали), и даже жизнь живых подобна смерти: «И отец уже ослеп, / Все имущество спустили, / Жили, как в пустой могиле…» (1. 340). В следующем эпизоде, посвященном матери лирического героя, также сочетаются мотивы жизни и смерти: «Ляжет спать – я то и дело: / Дышит мама или нет?» (1. 340).
Слова «жизнь» и «жить» появляются почти в каждой строфе, вспомним, что стихотворение называется «Жили-были», и в каждой строфе разыгрывается борьба между жизнью и смертью: «Вся Россия голодала, / Чуть жила на холоду», «Жили, как в пустой могиле…» и т.п.
Далее возникает еще один важный мотив – разобщенность героев («Гости что-то стали редки / В девятнадцатом году…»). И лишь когда эта разобщенность преодолевается («Но картошки гниловатой / Нам соседка принесла»), совершается «чудо», герою впервые является Муза, и он испытывает творческое вдохновение: «Первое стихотворенье / Сочинял я, как в бреду: / «Из картошки в воскресенье / Мама испекла печенье» (1. 341).
Стихотворение, написанное лирическим героем, примечательно двумя особенностями: прежде всего, в нем называется первопричина, пробу- дившая вдохновение, это – избавление от голода, «печенье из картошки». Но не менее значимо и упоминание воскресенья. Воскресенье – не только день недели и рифма к слову «печенье», но и преодоление смерти; эта семантика актуализируется благодаря контексту всего стихотворения, в котором описывается борьба жизни и смерти.
В двух заключительных строчках лирический герой подводит своеобразный итог: «Так познал я вдохновенье / В девятнадцатом году» (1. 341). Время описываемых событий, девятнадцатый год, называлось и в 1ой строфе, но если в начале стихотворения с этим временным отрезком связывались негативные явления (холод, голод, разорение), то в финале все тот же девятнадцатый год становится для лирического героя годом обретения истинного призвания, призвания поэта.
Итак, стихотворение «Жили-были» – еще одно воспоминание лирического героя о собственном детстве (здесь жанру воспоминания соответствует прошедшее время используемых глаголов). Художественный универсум стихотворения «Жили-были» семантически близок другим стихотворениям о детстве, вошедшим в сборник «Зимний день». Здесь также возникают мотивы смерти и судьбы, и судьба лирического героя соотносится с судьбой мира, в данном случае с судьбой России: «Вся Россия голодала…», «Бог Россию виноватой / Счел за Гришкины дела» и т.п.
Есть и еще один момент, свидетельствующий о том, что жизнь лирического героя «включается» в некий «вселенский» контекст. Стихотворение называется «Жили-были» (значимость мотива жизни для данного стихотворения мы уже отмечали), но сама формула «жили-были» – традиционный элемент сказочного зачина. И действительно, стихотворение А. Тарковского «развивается» по законам «сказочного» сюжета: испытание героя, соприкосновение с миром мертвых, воскресение и обретение новых способностей. Таким образом, стихотворение «Жили-были» представляет собой вариант сказочного (мифологического) сюжета об инициации ге-роя14.
Тяготение текста А. Тарковского к сказочной традиции проявилось и в выборе стихотворного размера. Стихотворение «Жили-были» написано 4-х стопным хореем, этим же стихотворным размером написаны сказки А.С. Пушкина: «Сказка о царе Салтане» и, что еще более значимо, «Сказка о мертвой царевне»15 , ср. тот же мотив преодоления смерти.
Итак, в сборнике А. Тарковского «Зимний день» с мотивом детства связаны следующие семантические комплексы: рождение, смерть, соотнесенность личного бытия с космическим началом, обретение героем своей судьбы, своего призвания.
Этот вполне традиционный, свойственный фольклорному сознанию, тематический набор А.А. Тарковский применяет к собственному лирическому герою, выстраивая некий поступательный сюжет о жизни героя. Неслучайно тематический блок стихотворений о детстве завершается текстом «Жили-были», в котором фиксируется момент обретения лирическим героем поэтического дара. Заметим, это «заключительное» стихотворение написано раньше, чем другие тексты, посвященные той же тематике. Это свидетельствует о существовании четкой композиционной структуры книги «Зимний день», что, безусловно, требует отдельного изучения.
-
1 См., например: Чупринин С. Крупным планом. М., 1983. С. 62–64.
-
2 Ср. поэтические книги А.А. Тарковского «Перед снегом», «Земле – земное», «Вестник».
-
3 Среди перечисленных текстов наиболее полно исследован цикл А.А. Тарковского «Пушкинские эпиграфы», и в целом в работах о творчестве Тарковского часто рассматривается вопрос о влиянии пушкинской традиции. См., например, следующие статьи: Кузьмина Н . «Как мимолетное виденье...» (О пушкинском эпиграфе и вариациях Арсения Тарковского) // Русская речь. 1987. № 3. С. 45–51; Бельская Л. Жизнь – чудо из чудес // Русская речь. 1994. № 5. С. 18–24.
-
4 Тематический принцип организации поэтических книг А.А. Тарковского отмечали многие исследователи. См., например, наблюдения А.П. Лаврина, составившего комментарии к 3-х томному собранию сочинений А.А. Тарковского: Тарковский А.А. Собрание сочинений: В 3 т. М., 1991. Т. 1. С. 414–415.
-
5 Все тексты А.А. Тарковского цитируются по изданию: Тарковский А.А. Собрание сочинений: В 3 т. М., 1991. После цитат указываются номер тома и страницы.
-
6 Сам А.А. Тарковский не раз говорил о своем интересе к фольклорной традиции, он был уверен, что поэзия по своему назначению близка магическим заклинаниям. Ср., например, высказывания поэта, прозвучавшие в личных беседах с К. Ковальджи: Ко-вальджи К. «Загореться посмертно, как слово…» // Тарковский А.А. Указ. соч. Т. 1. С. 15–16.
-
7 Механизмы соотнесения «личного» и «космического» начала в лирике А.А. Тарковского подробно изучены на материале ранних произведений поэта, сб. «Перед снегом». См., например: Марченко А. Что такое серьезная поэзия? // Вопросы литературы. 1966. № 11. С. 49–50; Рунин Б. Власть слова // Вопросы литературы. 1967. № 5. С. 122. Оба исследователя объясняют эту особенность художественного мышления поэта тем, что он испытывает серьезное влияние символистской традиции. Та же проблематика (связь лирического героя А.А. Тарковского с космосом, с мирозданием) затрагивается в работе В.И. Тюпы: Тюпа В.И. Постсимволизм. Теоретические очерки русской поэзии ХХ века. Самара, 1998. С 89–98.
-
8 О том, как важен для А.А. Тарковского мотив творения, см. подробнее: Мансков С.А. От «нулевого уровня» к творению мира // Studia Litteraria Polono-Slavica. 5 SOW. Warszawa, 2000. Р. 23–24; см. также уже упомянутые фрагменты беседы с К. Коваль-джи.
-
9 См.: Тарковский А.А. Автобиографические заметки // Тарковский А.А. Указ. соч. Т. 2. С. 179, а также комментарии А.П. Лаврина к стихотворению «Еще в ушах стоит и гром и звон…»: Тарковский А.А. Указ. соч. Т. 1. С. 447.
-
10 Мотив музыки – один из важнейших в лирике А. Тарковского, ср. хотя бы стих. «Ме-дем», «Ноты», «Струнам счет ведут по лире» и т.д. О значимости данного мотива в поэзии Тарковского см., например: Ковальджи К. «Загореться посмертно, как слово…» // Тарковский А.А. Указ. соч. Т. 1. С. 18.
-
11 См. комментарии А.П. Лаврина: Там же. С. 447.
-
12 О проблематике времени в лирике А.А. Тарковского подробнее см. в уже названных работах: Рунин Б. Указ. соч. С.123; Бельская Л. Указ. соч. С. 21. Проблематика времени отражается и в названии интересующей нас книги А.А. Тарковского «Зимний день».
-
13 О значимости данного мотива в художественном универсуме А.А. Тарковского см. подробнее: Мансков С.А. Древесный код поэзии А. Тарковского // Филологический анализ. Вып. 3. Барнаул, 1999. С. 25–31.
-
14 О подобных сюжетах и о характеристиках сказочного героя см. подробнее: Пропп В.Я. Морфология сказки. Л., 1928; Мелетинский Е.М. Герой волшебной сказки. Происхождение образа. М., 1958.
-
15 См.: Гаспаров М.Л . Очерк истории русского стиха. Метрика. Ритмика. Рифма. Строфика. М., 2000. С. 121.
Список литературы Интерпретация мотива детства в книге А. А. Тарковского «Зимний день»
- Чупринин С. Крупным планом. М., 1983. С. 62-64.
- Кузьмина Н. «Как мимолетное виденье..» (О пушкинском эпиграфе и вариациях Арсения Тарковского)//Русская речь. 1987. № 3. С. 45-51.
- Бельская Л. Жизнь -чудо из чудес//Русская речь. 1994. № 5. С. 18-24.
- Тарковский А.А. Собрание сочинений: В 3 т. М., 1991.
- Тарковский А.А. Указ. соч. Т. 1. С. 414-415.
- Ковальджи К. «Загореться посмертно, как слово…»//Тарковский А.А. Указ. соч. Т. 1. С. 15-16.
- Марченко А. Что такое серьезная поэзия?//Вопросы литературы. 1966. № 11. С. 49-50.
- Рунин Б. Власть слова//Вопросы литературы. 1967. № 5. С. 122.
- Тюпа В.И. Постсимволизм. Теоретические очерки русской поэзии ХХ века. Самара, 1998. С 89-98.
- Мансков С.А. От «нулевого уровня» к творению мира/Studia Litteraria Polono-Slavica. 5 SOW. Warszawa, 2000. Р. 23-24.
- Тарковский А.А. Автобиографические заметки//Тарковский А.А. Указ. соч. Т. 2. С. 179.
- Тарковский А.А. Указ. соч. Т. 1. С. 447.
- Ковальджи К. «Загореться посмертно, как слово…»//Тарковский А.А. Указ. соч. Т. 1. С. 18.
- Там же. С. 447.
- Рунин Б. Указ. соч. С.123.
- Бельская Л. Указ. соч. С. 21.
- Мансков С.А. Древесный код поэзии А. Тарковского//Филологический анализ. Вып. 3. Барнаул, 1999. С. 25-31.
- Пропп В.Я. Морфология сказки. Л., 1928.
- Мелетинский Е.М. Герой волшебной сказки. Происхождение образа. М., 1958.
- Гаспаров М.Л. Очерк истории русского стиха. Метрика. Ритмика. Рифма. Строфика. М., 2000. С. 121.