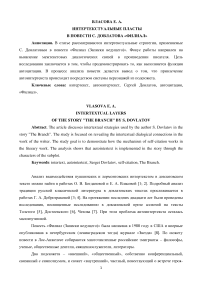Интертекстуальные пласты в повести С. Довлатова «Филиал»
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются интертекстуальные стратегии, применяемые С. Довлатовым в повести «Филиал (Записки ведущего)». Фокус работы направлен на выявление межтекстовых диалогических связей в произведении писателя. Цель исследования заключается в том, чтобы продемонстрировать то, как выполняется функция автоцитации. В процессе анализа повести делается вывод о том, что привлечение автоинтертекста происходит посредством системы персонажей из подсюжета.
Автоинтертекст, автоцитация, интертекст, сергей довлатов, филиал
Короткий адрес: https://sciup.org/147249941
IDR: 147249941 | УДК: 82.32
Текст научной статьи Интертекстуальные пласты в повести С. Довлатова «Филиал»
Анализ взаимодействия пушкинских и лермонтовских интертекстем в довлатовском тексте можно найти в работах О. В. Богдановой и Е. А. Власовой [1; 2]. Подробный анализ традиции русской классической литературы в довлатовских текстах прослеживается в работах Г. А. Доброзраковой [3; 4]. На протяжении последних двадцати лет были проведены исследования, посвященные исследованию в довлатовской прозе аллюзий на тексты Толстого [5], Достоевского [6], Чехова [7]. При этом проблема автоинтертекста осталась малоизученной.
Повесть «Филиал (Записки ведущего)» была написана в 1988 году в США и впервые опубликована в петербургском (ленинградском тогда) журнале «Звезда» [8]. По сюжету повести в Лос-Анжелесе собираются многочисленные российские эмигранты – философы, ученые, общественные деятели, священнослужители, литераторы.
Два подсюжета – «внешний», «общественный», собственно конференциальный, связанный с симпозиумом, и сюжет «внутренний», частный, повествующий о встрече героя- рассказчика с его первой любовью, теперь тоже эмигранткой в финале повести остроумно и иронично, но вместе с тем мотивированно и убедительно соединяются.
Между тем едва ли не самую выразительную особенность повести «Филиал» составляет массивный пласт автоинтертекста, привлеченного писателем. В основе сюжета повести – международная конференция «Литература в эмиграции. Третья волна» (1981 г., май), заметки о которой были подготовлены Довлатовым для «Нового американца» и опубликованы в «Синтаксисе» под названием «Литература продолжается» [9].
Интертекстуальная связь между двумя текстами – эссе «Литература продолжается» и повестью «Филиал» максимально эксплицирована. Однако «вторичная» актуализация «общественного подсюжета» происходит в рамках трансформации, художественного переосмысления и творческого дополнения.
По истечении ряда событийных обстоятельств название повести «Филиал» обретает сущностное наполнение. Для героя-рассказчика нахождение вне пределов большой родины воспринимается малым филиалом, который, однако, живет по тем же законам и традициям, руководствуется теми же привычками и принципами, что и в пределах оставленного отечества. Неслучайно для русских эмигрантов важнее другое: «Наша тема – Россия и ее будущее» [8, с. 8].
Однако, как и всегда у Довлатова, серьезные проблемы предстают в тексте в ироническом ключе. Потому вопрос о будущей (постперестроечной) судьбе России заявляется в повести своеобразно: «С прошлым все ясно. С настоящим – тем более: живем в эпоху динозавров. А вот насчет будущего есть разные мнения. Многие даже считают, что будущее наше, как у раков, – позади» [8, с. 8]. Последнее замечание немаловажно – будущее смыкается с прошлым, бытийный круг для героя (героев) Довлатова закольцовывается, выводя проблемы «малого сообщества» на всеобщий уровень, когда мифический допотопный образ «Ноева ковчега» [ibidem].
Так, по словам рассказчика: «Радио “Третья волна” <где герой работает> помещается на углу Сорок девятой и Лексингтон. Мы занимаем целый этаж гигантского небоскреба “Корвет”. Под нами – холл, кафе, табачный магазин, фотолаборатория» [8, с. 9]. Образ «Корвета» (как известно, в литературной традиции чаще всего разбойничье-пиратского судна) усиливает и развенчивает, дополняет и корректирует образ ветхозаветного «Ноева ковчега». Образы «двух охранников, белого и черного» [8, с. 9], стоящих при входе в здание, – в своей «диалектической противоположности» – акцентируют и углубляют мотив «каждой твари по паре».
Образ героя-рассказчика Далматова занимает в системе персонажей повести центральное, но (что еще более важно) серединное место1, что необходимо для формирования «нейтральной» (объективной) точки зрения на литературные споры, разгорающиеся на симпозиуме «Новая Россия: варианты и альтернативы». По самооценке Далматова: «Среди эмигрантских писателей я занимаю какое-то место. Увы, далеко не первое. И, к счастью, не последнее. Я думаю, именно такое, откуда хорошо видно, что значит — настоящая литература» [8, с. 9]1. Именно герои-литераторы становятся объектами (субъектами) журналистской и писательской рефлексии Далматова, и через их посредство интертекст выходит на передний план.
В эссе каждый из реальных участников симпозиума удостаивается небольшого фрагмента, в центре которого оказывается некая анекдотическая ситуация, произошедшая с героем2. Отдельный эпизод-главочка назван, как правило, по имени доминирующего персонажа – «Дело Синявского» [9, с. 275], «Дезертир Лимонов» [9, с. 276], «В окопах Континента, или Малая земля Виктора Некрасова» [9, с. 280], тогда как в повести прочерчивается единый сюжет, скрепленный образом корреспондента «Третьей волны» Далматова, направленного радиоредакцией для подготовки репортажа. Обязательность присутствия Далматова среди участников симпозиума-конференции (в отличие от эссе, где корреспондент отправляется на конференцию по собственной воле) привносит элемент отстраненности (дистанцированности) героя от участников симпозиума «Новая Россия».
В повести градус художественного вымысла повышается, домысел коннатирует уже первый повестийный эпизод, когда герой «Филиала» оказывается в Лос-Анжелесе. Если в эссе рассказчик сообщает (вероятно) достоверный факт о том, что из аэропорта до гостиницы он доехал на такси вместе с Виктором Перельманом, то в повести появляется «вымышленный» эпизод – когда водителем такси героя Далматова оказывается бывший заключенный из Устьвымлага, т.е. места службы Алиханова, героя «Зоны». Одна повесть Довлатова увязывается с другой, поддерживая мысль «записок надзирателя» о схожести жизни по обе стороны запретки и о ее абсурдизме и хаосе. Автоинтертекст обретает в эпизоде «двойственную» суть – «Филиал» оказывается связанным не только с эссе «Литература продолжается», но и с повестью «Зона» («Компромисс» и др.), расширяя границы корреспондентских обобщений.
Эпизод с писателем А. Д. Синявским в эссе носит название «Дело Синявского», эксплицируя (по сути интертекстуальную) аллюзию на «Дело Синявского и Даниэля» (1966 г.), на известный и шумный процесс, который состоялся над писателями- оппозиционерами Абрамом Терцем и Николаем Аржаноми который, по существу,положил начало диссидентского движения в СССР.
Между тем в повести сообщение о присутствии Синявского на заседаниях вместе с женой М. В. Розановой разворачивается в игровой микросюжет, насквозь ироничный, причем Синявский выводится в повестийном тексте под другим именем и только однажды (в ретроспективе) упоминается под именем собственным3 [8, с. 28].
Художественный текст дает Довлатову бóльшую свободу – и характер уважаемого Синявского превращается в образ смешного Белякова: «Разместили нас в гостинице “Хилтон”. По одному человеку в номере. За исключением прозаика Белякова, которого неизменно сопровождает жена. Мотивируется это тем, что она должна записывать каждое его слово» [8, с. 20]. Восхищение умом (мыслями) Синявского, которое испытывал повествователь в эссе, сменилось иронией рассказчика в повести.
Возникает вопрос: отчего так радикально поменялась аксиология? почему один и тот же персонаж обрел совершенно иные коннотации?
Вероятнее всего, текст 1982 года, публицистический, нейтрально выдержанный подразумевал некоторую «защищенность» Довлатову-художнику от возможных нападок коллег-писателей4. Вероятно, на самом деле, задача художника Довлатова состояла в другом. Скорее всего, совмещение, соположение объективной тональности и художнического вымысла позволяло создать объективную картину, проявляющую многогранность характера каждого героя (человека). (Авто)интертекст приобретал для Довлатова степень писательской достоверности и художнической честности, настоящей непредвзятости, целью которой становилась возможность приоткрыть завесу над неоднозначностью человеческого характера5.