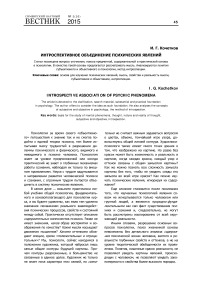Интроспективное объединение психических явлений
Автор: Кочетков Игорь Геннадьевич
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Психология и педагогика
Статья в выпуске: 2 (20), 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена вопросу уточнения, поиска предметной, содержательной и практической основы в психологии. В качестве такой основы предлагается рассматривать мысль. Анализируются понятия субъективного и объективного в психологии, метод интроспекции.
Основа для изучения психических явлений, мысль, свойства и реальность мысли, субъективное и объективное, интроспекция
Короткий адрес: https://sciup.org/14114093
IDR: 14114093
Текст научной статьи Интроспективное объединение психических явлений
Психология за время своего «объективного» путешествия к знанию так и не смогла подойти к единой теории психики, тем более испытывая массу трудностей в разрешении дилеммы психического и физического, видимого и невидимого в психике человека. Психология знает на уровне предположений или иногда практический не знает о глубинных механизмах работы сознания, наблюдая их только по внешним проявлениям. Наука с трудом задумывается о направлении развития человеческой психики и сознания, с огромным трудом пытается объединить в систему психические явления.
В самом деле — возьмите практически любой учебник общей психологии, фундаментального и основополагающего для психологии курса, и вы будете удивлены, как мало там уделено внимания механизмам реального взаимодействия психических процессов, свойств и состояний между собой. Практически отсутствует описание содержательных компонентов психики. Разве не имеет значения, каков образ восприятия и воображения по качеству? Какие мысли насыщают движения мышления? Какими оттенками обладают эмоции, кроме «положительных и отрицательных»? Мы, психологи, сейчас находимся в положении художника, который набросал лишь самые общие контуры будущей картины. Причем контуры разрозненные, в большинстве не связанные в единое целое. Художник не только не знает пока характера этих связей, но созна- тельно не считает важным задаваться вопросом о цветах, объеме, тончайшей игре узора, довольствуясь общей линией контура. Художники-психологи также имеют много точек зрения о том, что изображено на картине. Но разве без красок может быть жизненность и реальность в картине, когда каждая краска, каждый узор и оттенок связаны с общим замыслом картины? Как же можно познать всю сложность замысла картины без того, чтобы не увидеть следы его замысла во всей игре красок? Как можно изучать психические явления, игнорируя их содержание?
Еще сложнее становится после понимания того, что изучаемые психологией явления совсем не исчерпываются только человеком или группой людей, а являются природно-фунда ментальными как сам факт существования психики и сознания и, следовательно, не могут быть рассмотрены изолированно от всей окружающей реальности.
Иными словами, разрешение основных вопросов психологии, поиск жизненной основы невозможны без детального анализа содержания психической жизни человека, взятого в реальности глубинных свойств и оттенков, а не на уровне теоретической обобщенности их проявления. Понятия, лишенные красок реальности, не позволяют увидеть картины явлений, происходящих с человеком, не позволяют увидеть закономерности и свойства более высокого порядка.
И для движения по этому направлению необходимо уделить внимание некоторым фактам.
Сила и убедительность любого знания в его естественности и такой же естественной приложимости к жизни человека. Со времен глобального разворота в сторону позитивистской объективации знания начинается масштабный процесс нарушения равновесия в восприятии человека. И выражается он в постепенной потере значимости естественных внутренних оснований субъективного опыта человека и их подмене внешней объективностью.
Разум, великий хранитель научной объективности, не только субъективен изначально, но и всегда направляется внутренней силой чувства мыслителя. И если вы внимательно присмотритесь к различиям теорий ученых, то увидите, что в основе лежат в гораздо большей степени их характер, желания, чувства, комплексы, устремления, собственный опыт, нежели объективная прагматика знания. Чувство может направить разум, а развить чувства разум не способен. Он просто их сковывает и лишает человека жизненной силы. Причина не направляется следствием. Так как же нам говорить о силе разума, выраженной в его возможности объективного «внечувственного» познания, если разум сам является производным этой силы? Поэтому и разгадку устойчивости, реальности знания следует искать не в отвлеченности разумного познания от внутреннего субъективизма, а именно в правильном развитии внутреннего и субъективного, где так называемое «объективное», а на самом деле просто физически ощущаемое будет лишь одной из многих граней.
Может ли считаться существующая объективность психологического знания подлинной? Нет, потому что подлинная объективность и устойчивость знания опирается на внутреннюю согласованность, естественное субъективное принятие и непротиворечивость. Поэтому и единство сегодняшнего знания держится в большей мере на внешней договоренности, достигнутой значительно благодаря многолетней воспроизводящей и влияющей традиции, или, иначе, благодаря видоизменению того самого субъективного сознания для признания такого понятия объективности, но не на внутренней объединяющей реальности. Может быть, настал момент говорить об объективном субъективизме, если признанная объективность эфемерна?
Психология была, есть и останется наукой субъективной, потому что она является наукой о человеке, изучается человеком и помогает человеку. Будет субъективной и в силу того, что основную работу психолог проводит через свою же психику, от степени развитости и проработанности которой напрямую зависит результат. И это свойственно не только психологам, а является общей закономерностью [3].
И субъективизм из психологии никуда не ушел. Потому что без него психологии не будет. Он просто несколько изменил форму, оброс понятиями, методами и методиками. Но, как и раньше, на одном конце познания была психика познаваемого человека или людей, а на другом — психика познающего.
Во многом объективное в психологии является признанной субъективностью. Интроспекция, проходящая в самом исследователе или изучаемых им людях, никуда не исчезла, она просто видоизменилась и была усложнена дополнительными внешними методами. Методы математики, логического анализа, аппаратурные и бланковые психологические методики дополняют, уточняют, визуализируют, упорядочивают, дублируют именно субъективный опыт, но не заменяют его. Как форма не заменяет сущности или следствие причину. Объективное есть попытка упорядочить субъективный опыт. Качественно они не отличны. Упорядочивание, реальная объективность возможны только в постоянной опоре на субъективное и его процессы как на основное содержание.
И отсюда логически вытекает необходимость качественного, естественного развития субъективного в самом психологе. Необходимо развитие и утончение самого воспринимающего аппарата — психики, сознания. Как возможно субъективно разное по частностям, но субъективно близкое по уровню глубины восприятие слушателями музыки, читателями мыслей писателя, то так же возможно говорить и о глубине, тонкости восприятия одним человеком содержания психики другого человека. И утончение восприятия, психики психолога есть одна из главнейших задач психологии. Чтобы зеркало отражало реальность, оно должно быть чистым и целым. Единство психологического знания должно достигаться не на основе внешнего, тем более безусловного и бездумного принятия, а на основе субъективной согласованности внутреннего опыта психолога и психологического сообщества в целом по отношению к знаниям, психическим явлениям, проявлениям реальности. Иными словами, если знание психологии — это знание о психике, а следовательно, знание и о внутреннем мире самого психолога, то знание психологии не только не должно вызывать у него внутреннего противоречия, но и должно быть применимым в его внутренней и внешней жизни. Ведь если психология открывает и описывает реально существующие законы и механизмы внутренней жизни, то они должны естественно работать и «внутри» самого психолога, стирая грань между внешним психологическим знанием и внутренними процессами. Это одна протяженность. Психологическое знание должно быть субъективно естественным.
Вторым моментом, помимо соотношения субъективного и объективного, является вопрос определения единицы внутреннего содержания психики, которая была бы наиболее важной и значимой в изучении. Как это ни странно, но практически все основные психологические понятия являются достаточно размытыми и труд-ноформализуемыми. «Мышление», «восприятие», «личность», «психика», «ощущение», «воображение» гораздо менее определенны, чем их содержание: «образ», «мысль», «настроение», «слово». Человеком все эти сложные понятия субъективно переживаются в более очевидных и намного более надежных «я ощущаю», «я думаю», «я вижу образ», «у меня такое настроение!». Их он может описать, дать характеристики качествам, увидеть их изменения, ими он может управлять, развивать, видеть плоды своих усилий. По ним можно проследить, как меняется мышление и что происходит с сознанием. Интроспекция? И все это хорошо известно [1, 2, 4, 5]? Конечно, но ведь почти проигнорировано. И применяемо зачастую в ограниченных пределах. Психология как наука лишена человека (как и многие науки о человеке). А интроспекция часто рассматривается как замкнутый в себе субъективизм . Дело даже не в терминах.
Дело в том, что же из всего богатства внутреннего содержания могут дать наиболее показательные наблюдения? Безусловно, мысль. И не просто взятая как абстракция, оторванная от реальности, но именно как полноправная сила, реально существующая, имеющая множественные проявления. Мысль фиксируется в электрических сигналах мозга, влияет на функции тела. Она, очевидно, для субъекта отражается в его сознании и психике, производит внутренние изменения. Мысль, очевидно, воплощается в любой материальной форме. Последствия работы определенной мысли могут быть наблюдаемы исторически. Через нее можно анализировать любые уровни сознания от бессознательнорефлекторного до высшего творческого, характеризуя при этом и все другие психические явления. Кроме того, мысль обладает множеством субъективно ощущаемых свойств. Причем эти свойства имеют устойчивое субъективное согласие. Мы можем сколько угодно спорить о конкретных понятиях, но вряд ли сможем отрицать, что мысли бывают большие и малые. И их масштаб далеко не всегда определяется их формализуемым содержанием.
В реальной жизни это происходит постоянно. В сознании человека есть большие, образующие мысли, которые составляют его ядро. Более или менее осознаваемы. Они наполнены чувствами, желаниями, ожиданиями. Такие мысли требуют постоянной внутренней работы, дерзания и стремления. Они постоянно раскрываются. Касание к таким мыслям приводит к видоизменению сознания. К разрешению внутрилично-стных конфликтов. Они акмеологичны. Человек развивается. Именно через большие, сильные мысли, соединенные со все возвышающимся чувством, мыслитель развивает свое сознание.
В отличие от больших мыслей, малые весьма конкретны, легко выразимы, обиходны, привычны, понятны. Они не требуют развития чувств и эмоций, внутренней работы. Они вообще насыщены достаточно неяркими, малоподвижными, неустремленными, теплыми или тяжелыми эмоциями. Они привычны в своем выражении и тем обманчиво легки. Но такие мысли и эмоции сковывают развитие человека крепче любых пут. Практикующие психологи с этим сталкиваются постоянно. Сколько усилий, изобретательности нужно приложить, чтобы дать почувствовать человеку его собственную силу и значение в своем преобразовании. А ведь часто человек несколькими своими малыми мыслями снова возвращается в привычный круг мыслей и эмоций, обессиливая себя.
Мысль может быть созидающей или разрушающей. Напряженной или бездеятельной. Фокусированной и рассеянной. Хорошей или плохой. Но названная деструктивной и конструктивной, она обретает уже больше научного значения. Между тем сам человек, будучи с собой честным в своих размышлениях, отлично знает и понимает, какие мысли его разрушают, а какие укрепляют. От чего ему внутренне легко, а от чего тяжело. Но в силу привычки, внешнего внушения, ценностей, установок, собственной лени, боязни быть собой и взять за себя ответственность, сознательно выращиваемых тяжелых чувств и зависимостей человек делает постоянный малый и большой выбор в пользу разрушения. И масштаб последствий такого выбора может быть огромным не только для него самого, но и для окружающего.
Мысль в психологии сейчас лишена качеств, которые присущи ей от природы и четко ощущаются человеком, стоит ему только обратить на качества немного внимания. Но существование мысли, несмотря на всю ее субъективность, абсолютно объективный, ежесекундно доказываемый факт. Мысль имеет силу, особенную природу, свойства, законы. Мысль должна развиваться и изучаться в единстве с чувствами и эмоциями. Подлинное развитие мысли — это глубинный рост и изменение сознания. А это невозможно без знания и изучения природы мысли, взятой во всей полноте и масштабе ее собственной реальности.
Мысль — это главный предмет изучения психологии. Мысль может и должна стать той естественной, надежной, всепроникающей основой, на которой можно возводить прочное и полезное здание наук о человеке.
-
1. Декарт Р. Рассуждение о методе, чтобы верно направлять свой разум и отыскивать истину в науках, и другие философские работы : пер. с лат. М. : Академический проект, 2011.
-
2. Декарт Р. Соч. : в 2 т. М. : Мысль, 1989.
-
3. Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера. М. : Айрис-Пресс, 2004.
-
4. Вертгеймер М. Продуктивное мышление. М. : Прогресс, 1987.
-
5. Вундт В. Проблемы психологии народов. М. : Академический проект, 2010.
Список литературы Интроспективное объединение психических явлений
- Декарт Р. Рассуждение о методе, чтобы верно направлять свой разум и отыскивать истину в науках, и другие философские работы: пер. с лат. М.: Академический проект, 2011.
- Декарт Р. Соч.: в 2 т. М.: Мысль, 1989.
- Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера. М.: Айрис-Пресс, 2004.
- Вертгеймер М. Продуктивное мышление. М.: Прогресс, 1987.
- Вундт В. Проблемы психологии народов. М.: Академический проект, 2010.