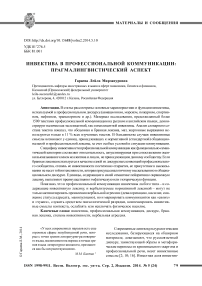Инвектива в профессиональной коммуникации: прагмалингвистический аспект
Автор: Гараева Лейла Мирзануровна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Материалы и сообщения
Статья в выпуске: 5 (24), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены основные характеристики и функции инвективы, используемой в профессиональном дискурсе (авиационном, морском, пожарном, спортивном, нефтяном, транспортном и др.). Материал исследования, представленный более 1500 текстами профессиональной коммуникации на русском и английском языках, демонстрирует наличие как эксплицитной, так и имплицитной инвективы. Анализ словарного состава текстов показал, что обсценная и бранная лексика, мат, жаргонные выражения используются только в 11 % всех изученных текстов. В большинстве случаев инвективные смыслы возникают у единиц, принадлежащих к нормативной (стандартной) общенациональной и профессиональной лексике, за счет особых условий и ситуации коммуникации. Специфику инвективности профессиональной коммуникации как функционально-семантической категории составляет относительность, актуализируемая при сопоставлении оценки высказывания членом коллектива и лицом, не принадлежащим данному сообществу. Если бранная лексика используется в качестве одной из дискурсных конвенций профессионального сообщества, степень ее инвективности постепенно стирается, ее присутствие в высказывании не несет той интенсивности, которая присуща аналогичному высказыванию в общенациональном дискурсе. Единицы, содержащие в своей семантике пейоративно окрашенную лексику, выполняют преимущественно эмфатическую или эзотерическую функции. Показано, что в профессиональной коммуникации инвективы любого типа - и содержащие инвективную лексику, и вербализуемые нормативной лексикой - могут не только активизировать проявления вербальной агрессии (девалоризацию, насилие, снижение статуса адресата, манипуляцию), но и маркировать коммуникантов как «своих» и «чужих», служить средством психологической разрядки, компенсировать инвективные смыслы контекста, ослаблять или исключать физическое насилие.
Инвектива, профессиональная коммуникация, дискурс, бранная лексика, степень инвективности, вербальная агрессия
Короткий адрес: https://sciup.org/14969824
IDR: 14969824 | УДК: 81276.5 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2014.5.10
Текст научной статьи Инвектива в профессиональной коммуникации: прагмалингвистический аспект
DOI:
«У всех современных народов есть еще огромные сферы непубликуемой речи, которые с точки зрения литературно-разговорного языка, воспитанного на нормах и точках зрения языка литературно-книжного, признаются как бы несуществующими».
М.М. Бахтин 1
Современные лингвокультурологические исследования, базирующиеся на обширном материале, доказывают, что русскоязычный дискурс, заимствующий образы и метафорические переносы из криминального жаргона и профессиональной речи, несет инвективные смыслы [2; 10; 16]. Известная доля инвектив- ности присуща и современному англоязычному дискурсу [14].
К основным экстралингвистическим причинам плотности инвективы в современном дискурсе относятся социальная нестабильность, перманентный стресс, отсутствие ограничений, воспитания, образованности (подробнее об этом см.: [2; 14]). Очевидно, что все перечисленные факторы как универсальные детерминанты «инвектиза-ции» национального дискурса могут быть экстраполированы и на профессиональную коммуникацию не только в низком, но и в высоком регистрах.
Логическим развитием данного состояния является изменение отношения к норме, а затем – и самой нормы, т. е. постепенно формы, ранее трактуемые как субстандартные, кодифицируются. В этой связи вполне обоснован вопрос Р.И. Розиной: «Существует ли в сознании современного носителя русского языка граница между сленгом и литературным языком или же слова, которые лингвисты по привычке относят к сленгу, уже стали частью литературного языка?» [12, с. 421]. Изучение данной проблемы на материале профессиональной коммуникации и на стыке институционального и бытового дискурсов актуально еще и в силу того, что профессиональный язык, по образному определению Ю.К. Волошина, есть своего рода «полигон» для проверки новых элементов языка, которые затем частично усваиваются стандартным, литературным языком [5, с. 10]. Особенностью этого «полигона», как уже было сказано, является высокая степень его инвектизации, на которую указывают многие исследователи (см., например: [8; 15]). В этой связи особую значимость приобретают слова И.А. Бодуэна де Куртенэ о том, что «для лингвиста все слова одинаково приличны» [4, с. 7].
Материалом для нашего исследования послужили более 1500 текстов преимущественно низкого регистра институционального дискурса (медицинского, морского, военного, спортивного, нефтяного и др.), содержащих различные формы инвективности. Изучаемые тексты извлечены методом избирательной выборки из электронных ресурсов: сайтов, форумов, чатов профессионалов (см. список ис- точников), а также записаны автором в ходе включенного наблюдения над профессиональным дискурсом.
Инвектива как родовое понятие для об-сценной и бранной лексики, мата, жаргонных выражений и т. п. была зафиксирована в только в 168 (11 %) изучаемых текстов. Например, в профессиональном дискурсе гражданской авиации: гидра «гидросамолет»; гидродинамический ублюдок «атомный ракетоносец»; лапотник «гидросамолет»; эмбе-рушка « гидросамолет МБР-2»; бакланы «служащие морской авиации»; в дискурсе пожарной охраны: кусок «прапорщик»; шланг «пожарный»; лишиться невинности «потушить первый в своей жизни пожар»; earthpig букв. «земляная свинья», перен. «большой человек, перспективный малый»; Lookie Loo «человек, любящий поглазеть на пожар»; the arse is out of ’er «новая вспышка огня». Однако анализ словарного состава этих текстов показал, что именно инвективная лексика (как профессионально маркированная, так и общенациональная), т. е. вульгарные, жаргонные, пейоративно окрашенные лексические единицы, фиксируемые в словарях с пометами «бранное», «уничижительное», «оскорбительное», определяют основной иллокутивный тон высказывания (см., например, тексты, размещенные на: III; XII; XV). Наиболее ярко эта особенность проявляется тогда, когда подобные ивективы используются по отношению к конкретному лицу, например: Сумасшедшая игра была! Потихоньку втянулся, хотя зрители меня поначалу не принимали. С трибуны постоянно кричали: «Русская свинья », что-то скандировали, называли коммун истом 2 (XI).
Инвективность рассматривается нами как универсальная функционально-семантическая категория, эксплицируемая табуированными лексическими единицами, ненормативными грамматическими формами, а также высказываниями, социально неприемлемыми по отношению к адресату (-ам), объекту коммуникации, стереотипам и нормам поведения в сообществе. Исследование показывает, что инвективность – феномен, вербализуемый не только при помощи инвективной лексики. Языковые средства, объективирующие категорию инвективности в профессио- нальной коммуникации, многообразны: от знаков препинания до кодифицированных многословных языковых единиц. Например, Восклицательный знак —..— использовался в радиообмене на советском торговом флоте и носил оттенок легкого ругательства (VI); Врач, восточная женщина Ирма Константиновна, меня осмотрела и тоже сказала: «Будем лечить». На вопрос: «как?» – она раздраженно спросила: «А вы что – медик?» (II).
К функциям инвективы, вслед за учеными, мы относим: маркирование «своих» и «чужих» (см. об этом: [6]); катарсис как психологическое облегчение при осознании возможности нарушения табу; создание новой коммуникативной ситуации, конвенциональность норм и смыслов которой претерпела социально детерминированные изменения; аккумуляцию негативных смыслов и коннотаций высказывания; выражение агрессии без физического насилия (см. об этом: [7]).
Особенности изучения инвективности в рамках прагмалингвистического подхода обусловлены нацеленностью прагматики на рассмотрение целого ряда объектов: а) коммуникативного употребления языка в целом; б) коммуникативного воздействия языка на аудиторию в тех или иных целях; в) способов и условий достижения этих целей; г) понимания и интерпретации высказывания; д) исследования имплицитного в языке (скрытых семантических признаков, подтекста); е) контек-стуальности языка как особого явления и т. д. (подробнее об этом см.: [3]). Очевидно, что центральным при рассмотрении инвективы в рамках данного подхода должен быть учет ряда прагматических параметров (места, времени, стандартности / нестандартности происходящего, личностей коммуникантов), классифицируемых Т.А. ван Дейком как социальные и когнитивные факторы, релевантные для речевого акта [17, с. 11].
Аппликация указанного подхода в социолингвистических исследованиях детерминирует две основные задачи: спецификацию «условий пригодности» речевого акта для некоторого прагматического и лингвистического контекстов и моделирование коммуникации для конкретных представителей конкретных социумов в конкретных социокультурных си- туациях. Особую значимость в свете указанной спецификации имеет профессиональное просторечие, выполняющее в первую очередь эмфатическую и эзотерическую функции. Инвективность жаргонных высказываний, эк-плицируемая при контрастировании с нормативными текстами, профессионалами не фиксируется. Например, предложение Звездочет видит пузырь, уже с соплями в значении «Станция оптического наблюдения докладывает, что американский самолет-заправщик выпустил топливный шланг» интерпретируется участниками коммуникации как соответствующее нормам низкого регистра профессионального дискурса военных моряков (XIV). Неспособность коммуниканта понять смысл сказанного автоматически категоризирует его как «чужого». Например: А как же без этого?! Иной раз специально так разговариваем, чтобы клиент не понял о чем речь – сляжет еще с инфарктом раньше времени. «Ужика раскладывай по всей площади так, чтобы голова с ж-й вместе пришли» – поучения во время монтажа теплого пола. «Что ты все рыбачишь? Машку возьми!» – маляры между собой (X).
Конвенционально выдержанное в нормах одного сообщества высказывание может быть интерпретировано как грубое в другом и наоборот. Например: Муж был просто в восторге, а я шокирована, после того как какой-то футболист забил гол и потом, не стесняясь, крепко выругался прямо в телекамеру (VII). Даже узуально приемлемая вежливая фраза в определенных условиях может трактоваться как уничижительная, а вульгарный мат может быть использован в качестве комплимента. Одна и та же лексема в зависимости от лексического и прагматического контекста рассматривается как инвектива или проявление восхищения. Например: Ах ты, паскуда! Ах, шельма! – вопиял Порша, вытаскивая Маришку за волосы на палубу. – Сказывай, кто тебя научил украсть штыку? (I); – Красивая рыжая шельма! – произнес восхищенно дед, вынув трубку изо рта и показав ею на тигренка (XVI). О различиях в восприятии отдельных лексем, несущих пейоративную коннотацию, свидетельствуют профессионалы: К примеру, общеизвестным является слово «чайник», обозна- чающее неопытного пользователя. Это слово, кстати, не является оскорбительным в профессиональной среде, поскольку любой «чайник» со временем может стать специалистом (IX).
Если использование бранной лексики есть одна из дискурсных конвенций профессионального сообщества, то ее присутствие в высказывании не несет инвективности. Если коммуниканты прошли социализацию в данном сообществе и имеют общую прагматическую и языковую пресуппозиции, инвектива не создает коммуникативного дисбаланса. Инвективность бранной лексики стирается, ее экспрессивность значительно снижается, например: Ох ходила я в художественную гимнастику, ни за что не отдам дочь туда, да плюсов много дисциплина, фигура, но минусы тоже есть это слезы детей от боли на растяжках, это порванные связки, грубость и крик от тренера (может и ударить). Я первый год ходила со слезами родители силой таскали, потом привыкла» (V).
Особую значимость приобретают инвективы в нестандартных ситуациях, связанных с эмоциональным и физическим напряжением, например: С овсем не ругаться на операциях гораздо труднее для психики. Высказаться – значит ослабить напряжение, поймать спокойствие, столь необходимое в трудных ситуациях хирургам <...> К вопросу о слежении: ни один хирург, что ругается на операциях, не теряет контроля над собой. Он сознательно ругается. Уж можете мне поверить [1, с. 74]. Данная функция инвективы – снятие напряжения – выявлена во всех изучаемых институциональных дискурсах. Многочисленны и высокочастотны инвективы при осознании ошибки или отказе техники. Например: Блин , да будь проклят этот драндулет и его конструктор (IV); В 10.41 бортовые самописцы зафиксировали шум от столкновения самолета с лесным массивом. Слышен крик второго пилота « курва» . Диспетчер еще пытается в последний момент спасти ситуацию. «Уход на второй круг», – кричит отчаянно он. И еще через секунду жуткий крик находившегося в кабине пилотов директора Казаны: « Курвааааа ...» (VIII).
Показательными являются конфликтные ситуации на стыке институционального и бытового дискурсов. Например, при общении пациента и медика: С ума сошла – немедленно ляг! Ты же сидишь на голове у ребенка! (II). В высказываниях такого рода инвектива создает ситуацию, где неспециалисту отведена роль жертвы, статус которой девальвирован. При этом референциальный диапазон оскорблений не ограничен: они могут быть высказаны в отношении интеллектуального уровня и профессиональных качеств коммуниканта, а также его внешнего вида, происхождения, его близких, качеств принадлежащих ему вещей.
В русскоязычной культуре грубость представлена ярче и номинирована плотнее, чем в англоязычной. Отсутствие перехода между этими двумя категориями делает их почти дискретными: человек, который не грубит, позиционируется русскими как вежливый (подробнее об этом см.: [9]). Классификация высказываний с точки зрения их приемлемости в англоязычной культуре включает не два, а три компонента: вежливое, невежливое и социально допустимое (см.: [18]). В этой связи «градуальность» инвективной лексики и высказываний, относимых тем или иным сообществом к категории инвективных или нормативных, обретает особую значимость, поскольку ряд явлений «располагаются на континуальной шкале между полюсами» [11, с. 4].
Инвективная «градуальность» характерна в первую очередь для так называемых неоднозначных текстов, особенность которых состоит в возможности по-разному интерпретировать их смысл. «Инвективный смысл таких текстов (высказываний) доказуем хотя бы в одном из интерпретационных вариантов. Неоднозначность таких текстов может быть изначальной (по замыслу автора), а также независимой от него» [13, с. 233–245]. Как правило, это случаи, в которых поведение, интерпретируемое вне сообщества как агрессия, членами профессионального сообщества трактуется как стандартное или даже вежливое. Например, приход доктора в кабинет, где осуществляются диагностические процедуры, с требованием к врачам отправиться к другому пациенту интерпретируется коллегой не как акт агрессии, а как предлог навестить больного и узнать о его состоянии: Cofield: “In the middle of a procedure that could basically save your life, House is actually trying to drag people away? How do you work with a guy like that?” Chase: “He wasn’t trying to pull anybody away. Everyone had already refused to work on that case. He knew the answer. He wanted to check on me. But he needed an excuse. Otherwise, he could be accused of caring” – Кофильд: «В середине процедуры, которая может спасти Вам жизнь, Хаус фактически пытается выдернуть оттуда людей. Как Вы работаете с таким человеком?» Чейз: «Он не пытался никого выдернуть. Люди уже отказались работать с тем пациентом. Хаус знал ответ. Он хотел на меня посмотреть. Но ему нужен был предлог. Иначе, его могли бы обвинить в том, что он проявляет заботу» (перевод наш. – Л. Г.) (XIII). Как видим, интерпретация поведения врача членом данного коллектива и лицом вне его в корне отличаются: для коллеги поведение доктора вполне объяснимо, оно не нарушает норм взаимодействия и не приводит к противостоянию между коммуникантами. Коллега не усматривает в тексте речевой агрессии, установки на антидиалог в широком смысле. Однако посторонним это поведение воспринимается как способное спровоцировать конфликт.
Таким образом, в профессиональной коммуникации инвективы любого типа – содержащие инвективную лексику и вербализуемые только нормативной лексикой – могут не только активизировать проявления вербальной агрессии (девалоризацию, насилие, снижение статуса адресата, манипуляцию), но и маркировать коммуникантов как «своих» и «чужих», служить средством психологической разрядки, «стягивать» инвективные смыслы высказывания, редуцировать или элиминировать физическое насилие.
Список литературы Инвектива в профессиональной коммуникации: прагмалингвистический аспект
- Амосов, Н. М. Раздумья о здоровье/Н. М. Амосов. -М.: Молодая гвардия, 1978. -191 с.
- Артюхов, А. В. Криминальные практики России сквозь призму культуры/А. В. Артюхов. -Ростов н/Д: РГПУ, 2004. -375 с.
- Арутюнова, Н. Д. Истоки, проблемы и категории прагматики/Н. Д. Арутюнова, Е. В. Падучева//Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 16. Лингвистическая прагматика.-М.: Прогресс, 1985. -C. 5-30.
- Бодуэн де Куртенэ, И. А. Избранные труды по общему языкознанию: в 2 т./И. А. Бодуэн де Куртенэ. -М.: АН СССР, 1963. -Т. 1. -384 с.
- Волошин, Ю. К. Общий американский сленг: состав, деривация и функции (лингвокультурологический аспект): дис. … д-ра филол. наук/Волошин Юрий Константинович. -Краснодар, 2000. -341 с.
- Жельвис, В. И. Об одном виде эвфемистической замены/В. И. Жельвис//Жанры речи. -Саратов: Колледж, 1999. -С. 281-286.
- Засыпкин, С. Инвектива/С. Засыпкин. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.madipi.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=134%3Adiscursologia-proyectoenciclopedico&catid=134%3Adiscursologia-proyectoenciclopedico-&Itemid=55. -Загл. с экрана.
- Коровушкин, В. П. Контрастивная социодиалектология как автономная лингвистическая дисциплина/В. П. Коровушкин//Язык в современных общественных структурах (социальные варианты языка -IV): материалы Междунар. науч. конф., 21-22 апр. 2005 г., Н. Новгород. -Н. Новгород: НГЛУ, 2005. -С. 7-13.
- Ларина, Т. В. Категория вежливости и стиль коммуникации. Сопоставление английских и русских лингвокультурных традиций/Т. В. Ларина. -М.: Яз. слав. культур, 2009. -512 с.
- Наминова, Г. А. Политический дискурс в современной России: Проблемы достижения общественного согласия: дис.... канд. полит. наук/Наминова Гелла Александровна. -М., 2001. -192 с.
- Перцов, Н. В. Проблема инварианта в грамматической семантике (на материале русского словоизменения): автореф. дис. … д-ра филол. наук/Перцов Николай Викторович. -М., 1999. -48 с.
- Розина, Р. И. Употребление сленга и его оценка в речи/Р. И. Розина//Язык и мы. Мы и язык: сб. ст. памяти Б.С. Шварцкопфа. -М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2006. -С. 420-428.
- Романов, А. А. Речежанровая специфика эмоциогенного фактора вербальной агрессии/А. А. Романов, Л. А. Романова//Лингвистика речи. Медиастилистика. -М.: ФЛИНТА, 2013. -С. 233-245.
- Степко, М. Л. Речевые средства выражения инвективных смыслов в жанре комментария публицистического дискурса: на материале современного английского языка: автореф. дис. … канд. филол. наук/Степко Мирослава Львовна. -Майкоп, 2008. -21 с.
- Фельде, О. В. Проблемы и перспективы лексикографического описания русского профессионального субстандарта/О. В. Фельде//Вестник Челябинского государственного университета. Филология. Искусствоведение. -2011. -№ 33 (248), вып. 60. -С. 209-213.
- Чудинов, А. П. Россия в метафорическом зеркале: когнитивное исследование политической метафоры (1991-2000)/А. П. Чудинов. -Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. пед. ун-та, 2001. -238 с.
- Dijk, T. A. van. Studies in the Pragmatics of Discourse/T. A. van Dijk. -The Hague: Mouton, 1981. -331 p.
- Watts, R. Relevance and Relational Work: linguistic Politeness as Politic Behavior/R. Watts//Multilingua. -1989. -Vol. 8, iss. 2/3. -P. 131-166.