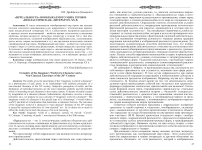«Ирреальность» воображаемого мира героя и «неклассическая» литература ХХ в
Автор: Дрейфельд Оксана Викторовна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теория литературы. Текстология
Статья в выпуске: 2 (33), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье описывается «воображаемый мир героя» как явление поэтики эпического произведения в его взаимосвязи с эстетическими принципами неклассической литературы ХХ в. Субъективное восприятие реальности и границы личных воспоминаний - наиболее важная эстетическая и жизненная проблема, которая интересует эпическую литературу в течение ХХ в. Для обозначения реальности, созданной воображением персонажа (сны, галлюцинации, грезы, мечты, мираж, воспоминания и т.д.), мы предлагаем использовать понятие «воображаемый мир героя». Воображаемый мир героя - особый тип «хронотопа» («мира в мире») и своего рода фокализация, которая определяет кругозор героя. Актуальность воображаемого мира героя в «неклассической» литературе ХХ в. обусловлена повышенной рефлексивностью «неклассического» искусства - с его желанием не только отображать действительность, но и наблюдать процесс собственного становления.
Воображаемый мир героя, ирреальное, м. павич, "корсет", х. кортасар, "непрерывность парков", неклассическая литература хх в
Короткий адрес: https://sciup.org/14914495
IDR: 14914495
Текст научной статьи «Ирреальность» воображаемого мира героя и «неклассическая» литература ХХ в
«Ирреальность» - это 1) онтологическое свойство объектов или действительности в целом, означающее их фактическое отсутствие в реальности; 2) оценка, которая дана определенному онтологическому состоянию / явлению с позиции действительности / недействительности его существования.
Что представляет собой «ирреальное» как явление поэтики литературного произведения?
Действительность, предстающая перед читателем как «мир персона- жей», как известно, условно реальна, т.е. является «возможным миром» (по отношению к «действительному»), «Вымышленность» мира, в котором существуют персонажи художественного произведения, ставит перед эстетикой вопрос о степени жизнеподобия этого мира по отношению к реальной действительности. Определение степени жизнеподобия условно реальной действительности в литературном произведении относительно фактической реальности, как известно, производится в эстетике при помощи категории «условность»1. Так называемая «первичная условность» отражает ту степень жизнеподобия, которая в целом не противоречит конвенциональным представлениям о фактической, наличной действительности. Так называемая «вторичная условность» отражает разные градации нарушения жизнеподобия в изображенной реальности произведения. Это воссозданное художественным способом впечатление того, что изображенная в произведении действительность отчетливо не соответствует конвенциональным (общепринятым) представлениям о реальности, традиционно схватывается в литературоведении с помощью понятия «фантастическое». Разные способы нарушения жизнеподобия создают в произведении образы действительности, успешно соотносимые в литературоведении с рядом устойчивых форм: «чудесной» реальностью, «гротескным» миром, «сновидческой» реальностью, подчеркнуто семиотизированной реальностью (например, аллегорической, символической, эстетической)2.
По замечанию Е. Фарино, «в произведении искусства, несмотря на его собственную фиктивность или условность, возможна своя сфера реальности и своя сфера фикции»3. В этом случае «ирреальность» как оценка действительности открывается персонажам и повествующим субъектам и сама становится предметом изображения. Например, изучая суть «фантастического», Ц. Тодоров делает акцент на том, что невозможность определения героем происходящих событий как «чудесных» или «реальных» формирует рефлексию читателя над «фантастикой» как явлением4. Основными формами опыта героя, открывающими «ирреальность» отдельных слоев действительности, являются встречи с «чудесной» («сверхъестественной») реальностью, с «реальностью» сновидения, видения или воспоминания, с «виртуальным миром», с «воображаемым миром» (в грезе, мечте, галлюцинации, мираже), с возникающим в воображении персонажа-творца вымышленным миром произведения.
Сюжетное событие контакта персонажа с «ирреальным» поляризует «реальное» (с одной стороны) и «чудесное», «воображаемое», «иллюзорное», «вымышленное» (с другой) в архитектонике эстетического объекта. Это определяет не только возникновение во внутреннем мире произведения «частных» (М.М. Бахтин) хронотопов («чудесного мира», «воображаемого мира», «вымышленной реальности», «реальности сновидения»), но и появление особых композиционно-речевых форм, и трансформацию субъектной структуры. Наименее изучен, на наш взгляд, вопрос о взаимосвязи изображенного в произведении сюжетного события контакта персонажа с «ирреальным» и «жанра».
Предлагаемая статья посвящена такому явлению поэтики литературного произведения, как «воображаемый мир героя». Этим словосочетанием (не закрепленным в теории литературы за другими объектами) мы предлагаем обозначить тот слой реальности, который в изображенном мире литературного произведения представляет собой продукт сознательного или бессознательного образотворчества героя. Этот образ реальности может развертываться в форме сновидения, грезы, мечты, галлюцинации, миража, возникающего в воображении персонажа-творца образа произведения, «виртуального мира», воспоминания.
Множество этих конкретных форм объединяет то, что ценностно значимый для автора познавательно-этический (а в отдельных случаях и эстетический) опыт героя при их посредничестве развертывается в образ мира. Изображение героя в этом случае сопровождается намеренным акцентированием активности воображения, присущей ему.
При этом модальность возможного, желаемого, воспоминаемого, воображаемого, субъектом которой автор делает героя, не просто называется повествующим субъектом, а тяготеет к оформлению в образ реальности, занимающий положение особого «слоя» в изображенном автором мире. Это значит, что внутри образа реальности, созданного автором, появляется образ реальности, отнесенный к осознанно или бессознательно воображающему герою («мир в мире»).
Исторически последним этапом, сделавшим воображаемый мир персонажа характерной частью изображения человека, является тот, который представлен в эпических произведениях «неклассической» литературы XX в. Выделение «неклассического» этапа стадии «художественной модальности» в развитии литературы предложено С.И. Бройтманом. В его концепции традиционное для отечественной «истории литературы» деление на «модернизм» и «постмодернизм» обобщается с точки зрения исторической поэтики: «...то, что в плане историко-литературном иногда кажется несовместимым и взаимоисключающим, в свете исторической поэтики предстает как некое целостное образование, единая поэтическая эпоха не только со своими полюсами, но и с поступательной логикой развития»5.
По замечанию X. Ортеги-и-Гассета, в искусстве «неклассического» периода происходит «новое перемещение точки зрения - скачок за сетчатку, хрупкую грань между внешним и внутренним»: «...внимание художника прежде всего сосредоточилось на внешней реальности, затем - на субъективном, а в итоге перешло на интрасубъективное»6.
Список литературы «Ирреальность» воображаемого мира героя и «неклассическая» литература ХХ в
- Дмитриев В.А. Условность художественная//Краткая литературная энциклопедия. Т. 9. М., 1978
- Лавлинский С.П., Павлов А.М. Фантастическое//Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. М., 2008. С. 278-281
- Фарино Е. Введение в литературоведение. СПб., 2004. С. 376
- Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу. М., 1997
- Бройтман С.Н. Историческая поэтика. М., 2004. С. 221
- Ортега-и-Гассет Х. О точке зрения в искусстве//Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М., 1991. С. 202
- Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе. М.; СПб., 2000. С. 451
- Бочаров С.Г. Пруст и «поток сознания»//Критический реализм 19 века и модернизм. М., 1967. С. 198
- Сартр Ж.-П. «Аминадав», или О фантастике, рассматриваемой как особый язык//Иностранная литература. 2005. № 9
- Федунина О.В. Поэтика сна (русский роман первой трети ХХ века в контексте традиции). М., 2013. С. 8
- Бройтман С.Н. Историческая поэтика. М., 2004. С. 273-274, 290, 291, 296
- Бахтин М.М. Автор и герой: к философским основам гуманитарных наук. СПб., 2000. С. 243
- Иностранная литература. 1998. № 4
- Бахтин М.М. К переработке книги о Достоевском//Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 319
- Бак Д.П. История и теория литературного самосознания: творческая рефлексия в литературном произведении. Кемерово, 1992. С. 14
- Кортасар Х. Полное собрание рассказов: в 4 т. Т. 1. СПб., 2001