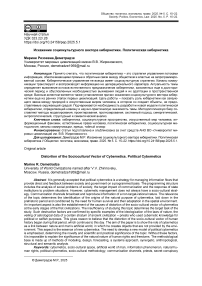Искажение социокультурного вектора кибернетики. Политическая кибернетика
Автор: Деметрадзе М.Р.
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 5, 2025 года.
Бесплатный доступ
Принято считать, что политическая кибернетика – это стратегия управления потоками информации, обеспечивающими прямые и обратные связи между обществом и властью на запрограммированной основе. Кибернетическое управление не всегда имеет социокультурную стратегию. Каналы коммуникации транслируют и воспроизводят информацию не целерационального характера. Актуальность темы определяет выявление истоков естественного предназначения кибернетики, заложенных еще в доисторический период и обусловленных необходимостью выживания людей и их адаптации в пространственной среде. Важным аспектом является также установление причин искажения социокультурного вектора кибернетики еще на ранних этапах первых цивилизаций. Цель работы – показать роль кибернетики как связующего звена между природой и искусственным миром человека, в котором он создает объекты, не предоставляемые окружающей средой. Подчеркивается необходимость разработки новой модели политической кибернетики, определяющей новизну и научно-практическую значимость темы. Методологическую базу составляют методы моделирования, проектирования, прогнозирования, системный подход, синергетический, антропологический, структурный и семантический анализ.
Кибернетика, социокультурное пространство, искусственный мир человека, информационный феномен, естественные права человека, политическая кибернетика, социокультурная методология, каналы коммуникации, жрецы, тайный сговор
Короткий адрес: https://sciup.org/149147913
IDR: 149147913 | УДК: 323.22/.28 | DOI: 10.24158/pep.2025.5.1
Текст научной статьи Искажение социокультурного вектора кибернетики. Политическая кибернетика
Введение . Социокультурная направленность каналов коммуникации природы как информационный феномен – относительно новая тема. Она требует выделения естественных законов природы, выполняющих роль связующего звена между физическим пространством и искусственным миром. Суть кибернетики заключается в том, что она выделяет человека как основного агента организации социокультурного пространства, заряжая его энергетическим потенциалом и культурными кодами. Отсюда берет начало суть естественности пяти основных сфер жизнедеятельности индивидов, которые в конституциях современных государств, а также в международной юридической практике значатся как права, которые даются человеку при рождении. Но что означает право на свободу по рождению? Разве человек может быть свободным во всем и всюду? Как государство и юристы толкуют эти права, и в чем предназначение феномена свободы? Неясность приближает эту категорию к идее Священного Писания, и понять ее можно так же, как и в Библии, то есть душа и свобода человека закладываются в нем при рождении. Между тем эти права и свободы действительно священны, так как передаются от природы с помощью кибернетических каналов коммуникации. Поэтому новую кибернетику следует рассмотреть не как запрограммированность технологии или процессов, а как программу, которая задана от природы.
Социокультурное пространство как среда жизнедеятельности человека, олицетворяет результаты его деятельности, поскольку в ней он создает те объекты, которые ему не предоставляет природа. Человеческий образ и стиль жизни требуют не только применения естественных благ природы, но и раскрытия многих ее тайн, упорядочения и изменения окружающей среды в соответствии с запросами людей. Социокультурное пространство имеет два измерения: первое связано с обеспечением индивидов естественными благами, второе – с социализацией и интеракцией людей. Контекст первого измерения трактуется как физическое пространство, а второй – как искусственная среда, поскольку именно здесь происходит конструирование социально значимых процессов поддержания совместной жизни людей. Разумеется, они взаимосвязаны и имеют свои каналы целенаправленного движения потоков информации, их циркуляции в пространственной среде и в социокультурном пространстве. Но при этом отличительной чертой искусственной среды является то, что она имеет антропогенный характер, поскольку только человек создает те объекты культуры, которые придают этой среде социокультурный характер, заложенный вместе с появлением человека на Земле.
Это означает, что человеческая деятельность стимулировала последовательность этапов изменений, упорядочения окружающей среды, появления различных форм цивилизации и модернизационных изменений, имеющих постоянный и беспредельный характер. В связи с этим искусственная среда представляет собой модифицированную техногенную инфраструктурную среду, в которой, с одной стороны, происходят постоянные инновации, а с другой – адаптация к меняющимся условиям человека путем интеракции и социализации. Искусственная среда включает человеческий фактор, человеческий капитал и такие процессы, как модернизация, урбанизация, модификация, адаптация, оптимизация и инновации. При этом следует отметить, что законы физического и искусственного пространства должны быть соотнесены с общими положениями кибернетики и не могут быть подчинены только политическим, экономическим или правовым нормам, поскольку они являются составными элементами гражданского общества. Поэтому обеспечение баланса динамики этих двух пространственных объектов требует социально-антропологического и фундаментального подхода.
Разумеется, физические законы давно изучаются разными естественными науками, но их взаимодействие с искусственной средой социокультурного пространства пока еще является слабо разработанной темой. Идеальная модель социокультурного пространства связана с поддержанием безопасности и жизнедеятельностью людей и всех существ Земли. Эта открытая многомерная система является информационно-коммуникативным феноменом, функциональной доминантой которой выступает координация системы каналов «входа» и «выхода» законов кибернетики, то есть трансляция социально значимой информации. Эти универсальные законы создают дифференциальное упорядочение интегральной коммуникативной сети, их пространственные и временные характеристики вводят первенство человека как «законнорожденного дитя природы».
Возникают вопросы: а) какие механизмы способствуют заданности законов кибернетики; б) как поддерживается целенаправленный ориентир векторов и чем объясняется первенство человеческого фактора в социокультурном пространстве; в) какую конструкцию имеют социокультурное и физическое пространства, где и как они пересекаются и сходятся; какие факторы обусловливают их взаимосвязанность и интегральность.
Ответы на эти вопросы требуют нового подхода к управленческим функциям законов природы, кибернетической модели коммуникативных каналов, обеспечивающей и диктующей все сферы человеческой деятельности, а также суть естественности их прав и свободы в социуме и в государстве в целом. Это инновационная кибернетика, задачей которой является интегрированность человека в социокультурное пространство. В этом и есть суть проекции кибернетической модели коммуникации, формирующейся на основе естественных запросов человека.
Актуальность темы определяется необходимостью выявления истоков естественного предназначения кибернетики, заложенных еще в доисторический период и обусловленных значимостью выживания людей и их адаптации к пространственной среде.
Цель исследования – показать роль кибернетики как связующего звена между природой и искусственным миром человека, в котором он создает объекты, не предоставляемые окружающей средой.
Задачи исследования: установление причин искажения социокультурного вектора кибернетики еще на ранних этапах цивилизации, социокультурных каналов коммуникации, то есть законов кибернетики, а также деструктивной роли мифологической идеологии, используемой жрецами на заре истории.
В статье предлагается авторская идея информационно-коммуникационных каналов законов природы и новые подходы к кибернетике, отличающиеся от существующих. Репрезентируемая модель рассматривается не как запрограммированность специально разработанных проектов или оборудования, а как процесс, который задается самой природой.
Теоретическую базу статьи составляют концепции систем, информации, культурной и политической антропологии. Важное место в понятийном арсенале политической кибернетики занимает теория игр и сетевые теории, способствующие анализу структуры и динамики политических сетей, выявлению ключевых акторов и каналов влияния на политические процессы.
Методологическую основу исследования составляют методы моделирования, проектирования, прогнозирования, системный подход, синергетический, антропологический, структурный и семантический анализ.
Результаты исследования . Кибернетику в определенном смысле можно считать базисным элементом науки о природе, имеющим свою специфику и особенности. Впервые этот термин употребил Платон1, затем, в XIX в., – А.-М. Ампер, который понимал под ним управление госу-дарством2, а в XX столетии Н. Винер дефинировал кибернетику как науку управления обработкой информации в технике и во всех живых организмах природы (Wiener, 1948). Сегодня она имеет широкое применение в теориях информации и управления. Но фундаментальное значение кибернетики заключается в связи физического и социокультурного пространства, в выполнении ею коммуникативных функций программирования человека природой для создания искусственного мира, содержательной основы всех сфер жизнедеятельности человека.
В связи с этим еще раз подчеркнем: кибернетические подходы нас интересуют не в физическом контексте, а в целях установления естественности прав и свобод человека, их связанности с законами природы. Поэтому кибернетику рассматриваем как связующее звено между природой, индивидами и социумом, которые и придают государству и обществу в целом естественный характер. И все же откуда и как берет начало феномен естественности, в чем проявляется и как поддерживается? Практика освоения и изучения законов природы, в нашем случае – кибернетики, закладывалась естественным путем еще в доисторический период, так как первобытный человек, находясь в окружении первозданной природы, стоял перед необходимостью ориентироваться в пространстве и времени. В дальнейшем, после перехода от кочевничества к оседлости и аграрной революции, значимость законов природы и необходимость их познания еще больше усилились: человеку важно было определить место, время посева культур и сбора урожая, следовательно, он должен был наблюдать цикличность времен года, знать количество дней в году, прогнозировать климатические изменения и т. д.
Выживание можно было обеспечить при наличии первичных экономических благ, создание которых зависело от климатических условий, предоставляемых природой. В первую очередь людям стало ясно, что смена дня и ночи, тепла и холода свидетельствовала о том, что в окружающем их пространстве есть силы, которые управляют этими процессами. Поэтому прежде всего следовало установить те объекты, которые могли выполнять роль измерителя времени, отслеживать цикличность погодных условий, а также определять этапы жизненного цикла в природе.
Наблюдения показывали людям, что климатические условия на Земле зависят от состояния космических объектов. Последние не меняли своего расположения и имели устойчивость, стабильность состояния, что могло обеспечить сбалансированность, симметричность и равновесие в системе отсчета времени. Однако, сохраняя место своего расположения, такие объекты могли менять свою форму и объем через определенные промежутки времени, в зависимости от фаз Луны и спектра лучей Солнца, от смены времени года, суток и погодных условий на Земле. Эти естественные факторы стали первыми так называемыми вычислительными аппаратами системы ведения счета дней, месяцев, недель, а также часов, и остаются неизменными по сей день. С помощью них установилась первая связь между пространствами неба и земли, произошло налаживание коммуникативных каналов кибернетики, утверждение ее информационного феномена, который обеспечивал принцип закономерностей естественности. Из этого следует, что экономические запросы стали побудительными факторами для создания первых объектов искусственной среды, обусловленных самой природой. Поэтому естественность таких прав и свобод обладает абсолютным статусом, а соблюдение их имеет непреходящее значение для всех времен и народов.
Сказанное означает, что первооткрывателями изучения природных явлений и их зависимости от небесных объектов стали древние люди, начавшие использовать для отсчета времени Солнце, Луну, звезды и семь главных звезд Большой Медведицы. Невероятным является тот факт, что люди, еще не имевшие письменности и специальной техники, уже создали и применяли правила отслеживания движения Солнца, выявили пятилетний интеркаляционный цикл (подразумевается процедура вставки дополнительного дня в феврале). Разумеется, не имеется в виду никакая наука, тем более кибернетика, однако такая практика позднее, после перехода на более высокий уровень развития, стала основой летоисчисления, астрономии, а также астрологии, которая изучала знаки зодиака, метафизические свойства небесных объектов, используемые при составлении гороскопов1.
Но в контексте человеческого образа жизни эти скрытые каналы коммуникации диктовали необходимость создания соответствующих условий в социальной, правовой, политической и культурной сферах. Так возникли эгалитаризм и физиократия, реципрокность, содержательный контекст социального действия и взаимодействия. Совершенствовался и сам человек путем реализации установок культурных кодов, дарованных природой. Взаимодействие окружающей среды и искусственного мира человека, происходившее в общем поле социокультурного пространства, обусловило деятельность индивида в соответствии с законами социализации, интеракции и инстаурации. Все они почти идентичны в контексте создания цивилизации и перехода человека на новый уровень развития. Поэтому жизненный мир каждого субъекта, а также естественная природа государства являются олицетворением применения и воплощения социокультурных аспектов кибернетики.
Однако позднее, после перехода от первобытности к рабовладельчеству, скрытые законы природы стали изучаться исключительно в астрономии и астрологии, знание о них превратилось в достояние определенных групп людей.
Итак, законы природы действуют и функционируют в социокультурном пространстве, имеющем два измерения: физическое и искусственное, так как в этом сегменте человек создает то, что ему не предоставляет природа. Суть кибернетики заключается в том, что она еще в древности заложила основы взаимодействия физического пространства с искусственным миром человека, который ему все еще предстояло формировать. Следовательно, все поступки первых людей были продиктованы неявными требованиями природы, ее коммуникативными каналами, передающими импульсы действия и ориентиры для взаимодействия человека с пространственной средой.
Однако позднее произошло нечто экстраординарное - то, что функционированию социокультурных аспектов кибернетики придало иное направление. И дело не в том, что сама природа отвернулась от людей. Они, как и общество, перестали подчиняться ее законам, поскольку ключ к тайнам природы находился в руках определенных социальных групп. Возникает вопрос, когда и как произошло такое искажение? Считается, что ранние общества шли естественным путем развития, переходили с позднего неолита к созданию первых городов, государств, цивилизаций, письменности, закладывали истоки науки и объектов культуры. Однако познавательная деятельность определенной страты «ученых» в области законов природы выполнила те деструктивные функции, которые привели к искажению социокультурного вектора кибернетики. Данный факт относительно мало изучен наукой, поскольку кибернетика в основном сводится к управлению процессами заранее спрограммированной схемы, а не самоорганизации общественной жизни исходя из естественных законов природы. Данную проблему не раскрывает и политическая кибернетика, так как основной задачей ее является управление политическими процессами, структура которых опирается на теории систем, их моделирования, конструирования и инженерии. Поэтому данная тема требует тщательного внимания, детального анализа и выяснений.
Прежде всего, следует принять во внимание, что любые инновационные открытия совершаются не обществом в целом, а индивидами, имеющими определенные способности. И поскольку установление взаимосвязи небесных объектов и Земли было сложной задачей, среди членов общины начали выделять тех, кто проявлял интерес к этому вопросу и имел потенциальные способности его раскрытия. Их освобождали от физического труда, давая время для наблюдений, проведения экспериментов и выполнения вычислений. Возникло новое разделение труда, помимо половозрастного, – на физический и умственный. Это означает, что истоки интеллектуальной деятельности, как и особый статус капитала такого рода, берут начало еще с доисторического периода. Впоследствии они стали движущей силой общества, без которой развития или создания тех объектов искусственной среды, которые не предоставляются природой, не происходит, а следовательно, нет и модернизации.
Особенность данного аспекта навыков и совокупности сведений заключалась также в том, что учет соотношения положения космических объектов с прогнозами климатических условий Земли требовал составления схем и календарей, которые ускоряли процесс развития математики, в том числе геометрии, методы которой применялись и для составления гороскопов. Безусловно, формировавшиеся знания имели практические результаты и способствовали получению сельскохозяйственной продукции, созданию новых объектов искусственной среды, но сама практическая кибернетика при этом постепенно превратилась в «служанку» астрономии.
В условиях отсутствия письменности и грамотности негласность законов природы имела необратимые последствия. Она способствовала распространению мифов, сакрализации природы, появлению идеологии господства, властной иерархии и особого статуса лиц, претендующих на знание тайн природы1 (Литовка, 2010).
И что, собственно, характерно для данной группы знатоков законов природы, что конкретно доказывает их деструктивную роль в первобытных обществах, переходе от доклассового к классовому обществу, а затем к рабовладельчеству? Как они трансформировались из простых наблюдателей небесных объектов в касту привилегированных, как их именовали, и каков их статус на заре истории человечества? Разумеется, речь идет о первых служителях культа, исполнителях языческих обрядов, о категории людей, ставших позднее жрецами, то есть распространителями определенной идеологии, агентами влияния на сознание масс.
Несомненно, толкователи законов природы были одаренными людьми, которые создали астрономию, первые календари, систему прогнозирования, открыли современникам многие тайны природы. Разумеется, полностью раскрыть секреты мироздания никому не удавалось и вряд ли когда-либо удастся. Но древнейшие носители астрономических знаний обладали специфическими методами, способствующими созданию объектов, поражающих своей неповторимостью и уникальностью современное человечество. И вряд ли без соединения астрономических и геологических сведений могли быть созданы артефакты, считающиеся семью чудесами света.
Однако эти позитивные тенденции могли бы соответствовать социокультурным аспектам и законам природы, если упомянутая группа людей, имеющая доступ к знаниям, не преследовала еще и иные цели, такие как проникновение в политику и управление государством через царей и фараонов. Астрология способствовала присвоению избранными себе посреднической функции между богами и людьми, а отправление религиозных обрядов выставляло требование построения храмов и проведения жертвоприношений. Все эти факторы создавали условия для формирования институциональных основ жречества, своеобразной ветви власти, сосредоточившей в своих руках функции контроля, управления и идеологии. Такой порядок был свойственен всем древним цивилизациям: Вавилону, Ассирии, Египту и т. д. Изобретенная и внедренная ими на практике форма косвенного управления государством имела свои особенности и строилась прежде всего на идеологии, полностью вытесняя реальные законы кибернетики и ее социокультурный вектор.
Связь с общественностью жрецы выстраивали на основе мифов, выполнявших идеологическую функцию обеспечения религиозного почитания природных явлений, ритуализации социальных процессов, уподобления вождей (затем – царей и фараонов) божественным существам, идеализации и канонизации их власти, наделения особыми качествами близкого окружения влиятельных лиц и их родственников. Такой стиль управления привел к постепенному разрушению эгалитаризма и физиократии, сетевой структуры общества, принципов равноправия первобытного строя и спровоцировал переход к иерархии и неравенству.
Естественный характер организации социокультурного пространства, создание искусственного мира человеком на основе пяти универсальных сфер жизни людей начал рушиться, так как общественное благо создавалось людьми, которые стали рабами, а праздный класс – имущими. Все эти факторы дают основание полагать, что именно в указанных событиях следует обнаружить стержень перелома истории человечества, кодирования кибернетического социокультурного пространства, так как ее главный агент - человек, и коды человеческого фактора исказились. Возникшая пирамидальная структура общественной организации устраивала не только вождей, царей, фараонов и богатых, которые начали присваивать результаты чужого труда, но и прежде всего - жрецов. Ключ к законам природы и сакральный принцип религиозной деятельности обеспечивали автономию и неприкосновенность функциональности института жречества. Астрологические знания стали своеобразным капиталом, носители которого выполняли функции советника, распорядителя и управляющего материальными благами, накопленными общественным трудом, а также тех ресурсов, которые были завоеваны в результате войн, участившихся из-за стремления занять стратегическую позицию. И этот факт имел далеко не случайный характер, так как само такое противостояние требовало не только конструирования военных действий, но и прогнозирования их исхода, учета сильных и слабых сторон противника, возможных убытков, получения пользы, экспертизы добываемых руд, завоеванных богатств, оценки возможностей их применения.
Сконструированная автономная модель института жречества, объединение религиозных, политических, экономических и правовых факторов в реальности не только уравняли их с властью фараонов, но даже позволили превзойти ее. Страх перед божествами, внушаемый жрецами, был сильнее, чем страх перед фараоном, хотя он и считался представителем и наместником высших сил на Земле.
Синкретичность мифов, то есть их замкнутость, создала модель политеизма, многобожия, язычества, идолопоклонства. Религиозные обряды совершались прежде всего самими жрецами, что говорит о том, что они взяли в свои руки всю информационно-коммуникативную функцию в государстве, а это противоречило законам кибернетики. Образовалась огромная дистанция между управляющими и управляемыми, а жречество, заменившее совет общины, возглавил главный по статусу жрец. Исходящая от них религиозно-идеологическая доктрина «так Богу угодно, так велено свыше» имела политическое значение и выполняла роль связующего звена между обществом и властью. Это приводило к нарушению естественной природы политики, поскольку она была направлена на господство и подчинение, а не на решение проблем общества. Ситуацию усугубляла усиливающаяся позиция военных, выполнявших как свои прямые функции, так и насильственно-принудительные по отношению к гражданам социума, что также способствовало нарушению естественной природы права, которое стало инструментом управления власть предержащих.
Парадоксальными можно считать и «закулисные действия», соучастие в секретных договорах и соглашениях жрецов разных государств того периода, вызывающие интерес в условиях современности. Речь идет об установлении абсолютной секретности предписаний, регламентирующих порядок и правила поведения представителей данной группы. Существует множество материалов на эту тему, но, к сожалению, серьезных научных разработок или исследований пока еще нет. И тем не менее, основываясь на имеющихся данных и применяя методологию культурной антропологии, мы можем отчасти раскрыть структуру этих обществ на основе артефактов и обрядов, отвергая тему масонства и антисемитизма, разумеется, поскольку цель нашей работы -выявление искажения социокультурного вектора кибернетики.
Изложенное выше дает основание сконструировать определенную схему института жречества. Во-первых, он олицетворял синтез мудреца и религиозного лидера, звездочетов и прорицателей, идеологию политеизма управления обществом; во-вторых, с его помощью осуществлялась координация практик консультирования, наставничества и инструктажа фараонов, высших административных чинов; в-третьих, жрецы имели доступ к государственным засекреченным сведениям о богатствах недр и казне. Все это позволяло им опираться на известные только им данные, использовать и применять их для своей выгоды, что подтверждает амбивалентность и неоднозначность деятельности представителей данной социальной группы. Ахиллесовой пятой жрецов был страх за собственную безопасность в период военных столкновений, который толкал их на формирование тайных сетей и каналов взаимодействия со служителями культа, представлявшими разные государства.
План тайного сговора заключался в том, что представители высшего ранга института жречества, то есть те, кто имел статус советника фараона, должны были поддерживать межгосударственные войны, но при этом в случае поражения одной из сторон реальные сведения о богатстве государственной казны и природных ресурсов не разглашать, а утаивать и обмениваться информацией исключительно между собой. Исходя из теории конфликтологии, такую деятельность можно назвать позицией подстрекателя или зачинщика, так как в любом конфликте при любом исходе они ничем не рисковали, а только выигрывали. Поэтому многие ученые считают, что модель такого скрытого объединения единомышленников, которое было сформировано еще на заре первых цивилизаций, стала прототипом будущих тайных обществ, стремящихся к разделу накопившихся и завоеванных богатств всего мира (Бутурлин, 2023).
Феномен жречества древнего мира – весьма сложная тема, так как закрытость данного института не позволяет до конца узнать многие его секреты. Но тот факт, что жрецы сыграли важную роль в формировании первых образцов глобализации, пусть даже и в скрытой форме, является неоспоримым1.
Можно критически относиться к изложенному нами материалу. Однако следует вспомнить в этом контексте об обнаруженных Александром Македонским знаках Гермеса (имеется в виду найденный изумрудный пергамент с надписями правил тайного общества мирового господства); о статистических показателях развитых стран так называемого первого мира (в них проживают 20 % населения, обладающего «золотым миллиардом», с 84,7 % мирового валового продукта, 84,2 % мировой торговли, 85,5 % банковских депозитов2). И это на фоне того, что 95 % прироста дают отсталые страны. Подозрение вызывает и мировая экономическая система, международные торгово-экономические институты, новые игроки мировой торговли – транснациональные корпорации (ТНК), а также вступление в силу Бреттон-Вудских соглашений в декабре 1945 г., замена золотого стандарта фиксингом Ротшильда. Эти сомнительные факты истории и современности требуют разъяснений, поскольку негативные тенденции происходящей глобализации являются тревожным сигналом и в определенном смысле выступают отражением практики тех далеких времен, игнорировать которые не стоит (Пластун, 2005).
В современной геополитической конъюнктуре политическая кибернетика активно используется в качестве инструмента мягкой силы, который направлен на трансформацию информационного пространства в интересах конкретного актора. Эффективное использование политической кибернетики требует воздействия на все аспекты социального пространства и в первую очередь на систему образования, управление которой позволяет вырастить идеологически правильное общество. В условиях прошедшего переходного идеологического вакуума для сегодняшней России крайне важно создать интенсивный механизм социокультурного вектора кибернетики, который должен быть направлен на рост оборонного сознания общества и повышения патриотической составляющей единой идеологии. В этой связи при реализации инструментов политической кибернетики основной упор необходимо делать на систему высшего образования, которая обеспечивает формирование полноценного человеческого капитала, а также геополитический трансферт элементов мягкой силы (Булавина, Новосельский, 2023).
Заключение . Основным источником неравенства и деструктивных факторов отклонения социокультурного вектора кибернетики считается появление частной собственности и присваивающей экономики. Это, разумеется, верно. Однако частная собственность могла быть импульсом к совершенствованию жизни и мотивом для конкуренции. И, может быть, тогда вектор истории мог бы пойти иным путем. Однако мифологизация естественных законов природы и религиозность астрономии привели к искажению естественных прав субъектов и кодов человеческого фактора. Во всем этом решающую роль сыграла идеология неравенства, созданная жрецами и используемая ими в своих корыстных интересах. Поэтому выявление факторов искажения коммуникативных каналов кибернетики как результат целенаправленного воздействия института жречества имеет ключевое значение в поисках причин деструктивных тенденций. Ответ на вопрос, почему человечество, находясь на перепутье, пошло по пути рабовладельчества, а не в социокультурном направлении, кроется именно в этих процессах, поскольку без влияния идеологии столь резкого поворота не могло произойти.
Антропоцентричность социокультурного пространства издавна фальсифицировалась. Неравенство, рабство, войны, тяга к богатству и другие деструктивные факторы, поддерживаемые идеологией жрецов, превалируют в обществе с той поры и по сей день. Однако говорить о том, что сегодня все измеряется параметрами, заданными жрецами, недопустимо, так как научные революции разных времен все же смогли ослабить их позиции, хотя остатки присущего им мировоззрения все еще есть и иногда проявляются.
Возникли разные области кибернетики, в том числе и политическая, которая старается приблизиться к интересам человека. Однако проекция модели социокультурного пространства, формирующаяся на основе естественных запросов человека, требует создания новой ее разновидности, поскольку существующие теории предлагают модель управления на предварительно установленной и запрограммированной основе. Безусловно, это важный контекст, так как позитивные цели ориентируют социокультурные процессы на соответствующие результаты, действуя по принципу «вызов – ответ». Вместе с тем практика показывает, что существующие подходы, в том числе проекты управления миром (Винер, 1983, 2001; Истон, 2000; Deutsch, 1963, 1969), не имеют фундаменталь- ного значения, так как глобальное пространство вовсе не становится стабильным, а сообщества – равноправными. Интегрированность человека в социокультурном сообществе может быть реализована при разработке новой модели кибернетики, иначе человечество будет действовать по принципу «запрыгивания в уходящий поезд», пункт назначения которого для людей неизвестен.