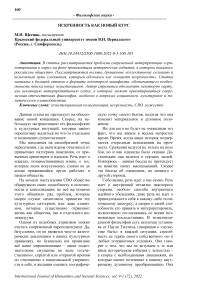Искренность как новый курс
Автор: Щесняк М.Н.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 9-1 (72), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема современной интерпретации «ориентирования в мире» на фоне происходящих исторических событий, в которых оказалось российское общество. Рассматриваются вызовы, брошенные коллективному сознанию и возможный путь следования, который обозначен как «концепт искренности». Статья написана в большей степени в формате некоторого манифеста, обозначающего необходимость поиска новых экзистенциалов. Автор стремится обозначить некоторую карту, или некоторую интерпретативную сетку, в которой может ориентироваться современная отечественная философия, особенно в вопросах социального, культурного и политического взаимодействия.
Экзистенциальная коммуникация, искренность, сво, мужество
Короткий адрес: https://sciup.org/170195558
IDR: 170195558 | DOI: 10.24412/2500-1000-2022-9-1-100-105
Текст научной статьи Искренность как новый курс
Данная статья не претендует на обоснование новой концепции. Скорее, на небольшую экстраполяцию тех философских и культурных интуиций, которые имеют перспективу вылиться во что-то отдельное и полноценно существующее.
Мы находимся на своеобразной точке пересечения, где вынуждены отказаться от привычных паттернов поведения, от привычных ориентиров и идеалов. Речь идет о идеалах, позаимствованных извне, о тех, которые лишь искусственно, словно не до конца прижившийся орган работает в нашем обществе.
На момент наступления СВО общество обнаружило свою способность к сплоченности и консолидации, но всё же помимо этого обнажило ряд проблем, которые скорее служат симптомом принятия тех культурных паттернов, или даже атавизмов, которые существенно отравляют жизнь как общества, так и отдельного индивидуума.
Одним из подобных атавизмов можно считать современный европоцентризм. Да, безусловно, он не является чем-то категорически довлеющим в наших культурных привычках, но буквально им пронизано всё наше миропонимание - наше подсознательное смущение во всем «отечественном», скрытой или открытой иронии по отношению к национальной уверенности в себе, в желании сменить географиче- скую точку своего бытия, полагая что она изменит материальное и духовное положение.
Ни для кого не будет не очевидным тот факт, что мы живем в весьма непростое время. Время, когда наша история подвергается очередным испытаниям на прочность. Сражения ведутся не только на поле боя, но и как однажды было сказано Достоевским она ведется в сердцах людей. Повторюсь - данная беседа не претендует на новизну своих высказываний. Скорее эта беседа об очевидном, но немного с другой стороны.
Собственно, речь идет о нас самих. Речь идет о внутренней нехватке некоторого стержня, особого способа внутреннего идейного убеждения, даже речь не идет о принадлежности себя к какому-либо политическому дискурсу, а скорее о своей способности его принять и интерпретировать, мужественно согласившись со всеми возможными последствиями. В экзистенциальной философии есть неплохая установка от Пауля Тиллиха, говорящая о «мужестве быть» в каждой ситуации, способность не терять своего собственного «я» в любых пограничных условиях. Она говорит о том, что мы не вступаем в те или иные исторические события с легкостью -а скорее с необходимыми лишениями, но которые имеют потенциал к нашему внутреннему духовному преобразованию. Она говорит о тяготах и терзаемых сомнениях, но в тоже время и о возможности Победы.
Увы, русская общественность сейчас претерпевает самую абсурдную интерпретацию западного либерального сознания. Этика двоемыслия (хотя многие находят произведения Оруэлла актуальными только у нас) смогла извратить понимание возмездия до уровня мелочной территориальной агрессии. В этом отношении становится понятной относительность истории, как такой области знаний, где побеждают сохранившиеся документы и отснятые материалы, где побеждает категорическое утверждение истины посреди многочисленных симулякров и фейков. Речь идёт, собственно, о СВО, где европейское сознание посреди огромнейшего количества фактов, обосновывающих необходимость этого процесса, где посреди огромного количества свидетельств (за восемь лет) -впереди всего идёт конструирование ложного трагического нарратива, поскольку именно он выгоден для большинства. Это не тот трагический нарратив, который нам известен по окончанию Второй мировой войны, а скорее поставленный на конвейер процесс бесконечного тиражирования ложных фактов, преподнесённых в формате ужасающей трагедии.
Проблема состоит в том, что посреди огромного количества самых разнообразных источников информации мы местами потеряли основной курс. В силу огромного влияния интернет-ресурсов на людей, не обладающих базовым критическим мышлением, мы имеем массы, руководствующиеся исключительно эмоцией. Еще в «психологии масс» Гюстава Лебона можно было отметить тот факт, что по-настоящему, человеческим сообществом можно руководить посредством умело проводимого эмоционального настроя, поскольку рациональные методы в основном рассчитываются для более непопулярных и малочисленных классов. И мы прекрасно видим, что с новыми технологиями количество ловушек, количество всяческих риторических уловок поражает воображение. И на данные уловки имеется огромный спрос. И в зоне риска находится совершенно любой человек.
Но этот момент давно всем известен и самоочевиден, здесь мы наметили лишь основные пункты. Нам давно необходим поворот того фокуса зрения, к которому мы давно привыкли. Мы нуждаемся в интроспекции, во взгляде вовнутрь. Возможно, данная беседа будет чрезмерно уведена в философскую область, но, с другой стороны, не нуждаемся ли мы в совершенно новой философии, философии отечественного порядка, позволяющую нам снова с уверенностью посмотреть на себя в зеркало? Философия, со слов Бодрийяра является наукой по созданию концептов и именно сейчас мы остро нуждаемся в своем собственном фокусе.
Любая философия в конечном итоге стремится на своё собственное определение критерия истины. В силу имеющихся общественных проблем, многолетней критики либерального мышления мы сталкиваемся со следующим вопросом: является ли истина исключительно коллективным состоянием? Может ли конвенция по какому-либо коллективному вопросу претендовать на исключительную дефиницию провозглашаемых истин и диктовать их оставшемуся «меньшинству»? Либо мы должны отказаться от ряда общепринятых конвенций, особенно тех, которые искусственно были навязаны нам извне?
Мой посыл заключается в возвращении проекта просвещения и обоснования некоторого концепта, который я рискну обозначить как концепт искренности. Я хочу показать, что принцип разума может быть тем спасательным жилетом, возвращающим нас в колею «интенции в бесконечность», которую так отстаивал Шпенглер несмотря на всю пессимистичность некоторых его рассуждений. Мы воистину обладаем той волей, способной не только к уничтожению, но и созиданию.
Искренность, согласно словарю Ушакова - обозначает чистосердечие или откровенность. Если развить данную установку в философском ключе можно говорить об искренности как способности человека быть открытым как по отношению к самому себе, так и по отношению к своему обществу, желая стремиться к некоторой идеальной модели (У Бердяева, к примеру, этой моделью служил «коммунион», у Ясперса – общее понимание экзистенциальной коммуникации, как особой формы взаимодействия Я – Другой). Искренность может как раз служить той «массовой» эмоцией, которая помимо рациональной части имеет возможность сплотить именно наш культурный фон, она может стать новым кодом, в отличие от того же метамодерна, который сможет написать совершенно новую историю, в которой нет пут заимствованных интерпретативных сеток. В некотором смысле, это можно считать возвращением к истокам. Если обратиться к пониманию экзистенциальной коммуникации — Ясперс сформулировал понятие коммуникации как процесс со-постижения экзистенций, особую ситуацию, которую, с точки зрения Ясперса, «нельзя продемонстрировать как пример и нельзя воспроизвести, но каждая такая коммуникация существует в своей абсолютной уникальности. Она совершается между двумя самостями, которые суть только эти самости, а не представители, и потому незаме-стимы» [2, с. 43].
То, что я подразумеваю под «возвращением к истокам» не является отсылкой на традиционалистическую традицию европейской мысли. Скорее, это подразумевает под собой обоснование необходимости каждому определить проблему человека в исторической ретроспективе. У нас она категорически своя.
Подобная установка уже имеет место быть, но на данный момент лишь в рамках построения трагических нарративов, в рамках травматических воспоминаний, которыми безусловно полна общечеловеческая история. Но наша история не только поле исследования для виктимологов, но и может заключать в себе смыслообразующие интенции. Сейчас мы стоим на пороге значительных перемен, где каждый должен чувствовать потребность в создании некоторого «коммуниона» или идеальной модели общества, способной к созиданию и равноценной коммуникации.
Современная массовая культура выражает себя исключительно через виктимо-логию. Симуляция правоборческого процесса в отношении нацменьшинств, пред- ставителей и ЛГБТ заранее формирует в себе образ предельно неприкосновенной жертвы, образ, который находится по ту сторону всякой возможной дискуссии. Свобода слова из широкого спектра возможностей и веера вариаций словоизьяв-ления превратилась в тоннель, в котором человек имеет с какой угодно скоростью двигаться к краю пропасти. Не отвлекаясь на многочисленные примеры, уже на данный момент можно сказать, что существующая идеология виктимности направлена исключительно на потакание деструктивных желаний, в которых нет места фаустовской интенции. Любая идея совершенства (которую зачастую пытаются отобразить как следствие «объективации» и проч.)
Мы постепенно приближаемся к тому, что в свое время было обозначено идеей "подпольного человека". Критика прогресса, выступление за равные права совершенно одинаковой в своей практически эпилептичной пестроте массе превращает человека фаустовской (в понимании Шпенглера) культуры в лишнего человека. Экзистенциальные ориентиры подверглись постмодернистской деструкции, низведены в ранг равноценных, а потому и одинаковым образом безразличных. Инверсия понимания подпольного человека заключается в том, что в данном случае "кукиш в кармане" должен показать человек, чьим жизненным ориентиром становится стремление к разуму. Внутренний протест, заключающийся в нравственном противоборстве против концепции всеобщей ценностной индифференции должен стать постоянным ориентиром.
Внутренний протест также должен заключаться в том, что мы должны перестать быть «подпольным человеком» и сбросить с себя оковы и нагромождения совершенно ненужного нам «хрустального дворца».
На данный момент мы имеем довольно странную, всё еще воспринимаемую смешанную культурную установку. Это дикий гибрид борьбы за экологию, равноправие и максимальное расширение правового поля, вектор которого направлен исключительно в сторону абсурда. Стремление сбросить с себя все моральные и культурные установки, жажда эфемерного освобождения (во имя чего?) приводит не к постройке нового общества и новым ценностям, а скорее приводит к возвращению первобытного человека Руссо. Айн Рэнд была исключительно права в подобного рода сравнении, так как она описывает полное снятие скрепляющего культурного фона (моральные ценности, стремление к рационализму, идея прогресса как такового) без перехода на качественно (именно качественно) новый уровень. Деградация становится синонимичной свободе. Эта пародия на гегельянскую концепцию развития ставит человечество на край пропасти и основная проблема заключается в данной извращенной концепции свободы. Ее выражение заключается не в стремлении к бесконечному развитию, не в гуманистической установке развития всестороннего человека, а ровным счетом наоборот – свобода быть деградирующим, бесконечная возможность для самодеструкции. Даже романтизация психических заболеваний служит явным тому примером.
Радикализация ранее существующих веток борьбы за основные права превратила правоборческое движение в жалкую комедию. В самом либеральном, казалось бы, пространстве Европы и США бытует практически первобытный страх перед возможностью самой артикуляции альтернативного мнения. Агрессивность жертв притеснения или как принято называть это «белого превосходства» практически является идеалом оруэлловского двоемыслия, в котором жертва может быть нападающей, агрессивной, и выставляющей вместо здравой социальной позиции свои гениталии. Множество протестов выглядит именно как голая, в буквальном смысле этого слова, и ничем не подкрепленная манифестация. Символически это идеально подходит для уровня интеллектуального базиса подобных движений.
Небольшие майевтические процедуры, которые принимаются основными критиками неолиберального движения в идейном смысле мгновенно разбивают тезисы, утверждаемые их представителями. Но проблема заключается несколько в другом:
в формате эмоционального отклика. Эмоция может стать гораздо более губительной формацией распространения идеи, о чем еще в свое время говорил Гюстав ле Бон. Выражение своих идей неолиберальные представители находят в самых примитивных, глубоко подсознательных и первобытных способах. Как говорил Леви-Брюлль, первобытному обществу свойственна совершенно иная «логика», они мыслят совершенно противоположно нашим рациональным способам осмысления действительности. Безусловно, сравнивать манифестации BLM и первобытную культуру полноценным образом будет некорректно, но общие принципы и факт того, что подсознательно эти паттерны в нас содержатся отрицать нет смысла, в подобного рода движениях интеллектуальный пласт человечества стёрся словно незначительный налет и что находится под ним – вызывает ужас даже у патологоанатома.
В предисловии мы упомянули о том, что человек метамодернизма склонен к разрушению и переработке наследия культуры в чудовищ инсталляции. В понятии метамодернизма присутствует один существенный изьян. Понимание его как новой искренности, аналогично существующей интеллектуальной (я бы сказала анти-интеллектуальной) традиции не имеет совершенно никакой референции. Деятельность ради деятельности, искусство – не имеющее никакого символизма, противопоставляющее себя в принципе любой смысловой деятельности. Даже понятие нового ремесленничества себя прямо определяет как ремесло без производства, ремесло ради самого процесса. И в данном отсутствии целеполагания, отсутствия морального вектора искренность представляет собой проявление пустого энтузиазма. Вернее, пустой разрушительности.
Важным поворотом в понимании "новой искренности" может возвращение к морали, манифестация проявления мужества как способности противостояния окружающему абсурду. Одним из наиболее знаковых тезисов Ноама Хомского является утверждение об ответственности интеллектуала, задачей которого является отображение правды. Всеобщая и практически стадная покорность современного (в особенности, западного) общества трепещет даже перед малейшей попыткой артикуляции своего негодования. Радикализация идей мультикультурализма привела скорее к обратному расизму, в котором личность теряется среди меньшинства, стремящееся не уничтожить саму идею неравенства, а скорее приобрести первенство или новые привилегии. Уничтожение неравенства для данных сообществ тождественна с уничтожением отдельно взятой личности, которая будет иметь мужество сказать произносимым идеям «нет» даже при количественном превосходстве. С таким же успехом можно считать гласом истины общий гогот толпы в доме умалишенных.
И именно такая противоборствующая коллективному помешательству личность и должна являться символом метамодерна, если его понимать как формирование новой культурной установки. Это человек фаустовской культуры, который находится в временных рамках технологического прогресса. Это отображение новой эпохи Просвещения, или же скорее – эпохой Возвращения. Теория Шпенглера весьма хорошо типизировала этот феномен и можно сказать, что интерпретация его идей актуальна и на данный момент. Но сейчас скорее имеют место быть аналогии с финальной стадией культуры (в частности, европейской культуры) – ее смерти.
Любой человек является творцом как носитель разума, любой человек способен породить нечто оригинальное – будь это научный концепт или художественное произведение. Основная проблема в том, что феномен массы нивелирует личную инициативу, возникает иллюзия перенесения ответственности. На что-то великое способен некий абстрактный Другой, на которого переносится также и вся ответственность за ошибки коллективного характера. Многочисленные жалобы на власть (самых противоположных течений, но совершенно идентичных по духу), попытка принизить достоинства творческого человека во имя «обыденных» ценностей – являются попросту симптоматикой экзи- стенциального кризиса, который стал не явлением отдельных персон, а общей социальной болезнью.
В нашем культурном коде описание протекающих социальных процессов можно кратко обозначить как «новая шига-левщина». Стремление к уничтожению всего, что связано с теорией прогресса, со всем что имеет так называемую «патриархальную составляющую» (а в нее входит и дефиниция разума, формальной логики, стремления к совершенству и проч.) нацелено прежде всего на тотальное уничтожение античного идеала.
Подавление любого гения, стремление к свободе через тотальное уравнение всех к пестрому, я бы сказала, пестрому до эпилептического припадка большинству – вот новый лик социалистических воззрений. Во многих СМИ фигурирует такое понятие как культурмарксизм, или либеральный марксизм.
Проблема социализма данного типа прежде всего заключается в выбранном векторе. Это социализм слабых, пародия на тот социализм, понимание которого присутствует у нас, тянущих отдельную личность, убивающий привычный нам европейский идеал рационалистического человека в бездну как интеллектуальной, так и физической деградации. Ранее присущая нацеленность на труд, на построение идеального общества (не отрицая ошибок данного дискурса) была более целеполагающей, чем этика повсеместного одобрения.
Этика повсеместного одобрения в целом представляет собой нацеленность человека на изначальную деструкцию собственной ценностной интуиции. Воистину с декартовским сомнением, которым наделили умалишенного он разлагает гуманистический идеал всесторонне развитой личности на отдельные составляющие, подвергаемые тщательной критике и сомнению. Сомнению в том, что совершенство является совершенством, что разум предпочтительнее глупости, что спорт преимущественен перед гиподинамией и далее. Всё растворяется в котле культурного разнообразия
Не будет новым указывать тот факт, что под шаблон меньшинства попадает российское общество. Ему пытаются вменить вину за наличие собственных традиций, за неправильный мультикультурализм (наш исторический пример существования огромного количества народностей в СССР является концептуально противоположным, смею уверить).
На данный момент у нас появился шанс окончательно ампутировать воздействие подобного образа мышления. Идея искренности может послужить картой, в которой человек может найти необходимый ориентир. Все мои попытки уместить рационально выверенной теории терпят крах, крах безусловный и предопределенный в своей сущности. Как бы сказал Ален Бадью, и это было сказано в контексте философской мысли, искренность бесшовна, искренность выражает квинтэсссенцию нашего морального самоощущения, желания открытия, разрушающего всю мнимую стройность порядка своей чистой непосредственностью. Но в данном случае скорее уместно было бы говорить об интенции искренности исключительно в рамках внутреннего опыта, в том, что развивал еще Августин. Это скорее идея, некоторая интенция, которая может существенно по- свою концепцию искренности в пределах мочь в нашем новом пути.
Список литературы Искренность как новый курс
- Ясперс К. Философия. Т. 3. Метафизика. - М.: Канон+, 2011.
- Ясперс К. Философия. Т. 2. Просветление экзистенции. - М.: Канон+, 2011.
- Тиллих П. Мужество быть. // Перевод Т.И. Вевюрко 1952. В кн.: П. Тиллих. Избранное. - М.: "Юрист", 1995.
- Хабермас Ю. Вовлечение другого. Очерки политической теории. - М.: Весь Мир, 2011.
- Шатуновский И.Б. "Правда", "истина", "искренность", "правильность" и "ложь" как показатели соответствия/несоответствия содержания предложения мысли и действительности // Логический Анализ языка. Культурные концепты. 1995.
- Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4-х томах. - М.: Русс. яз., 1989.