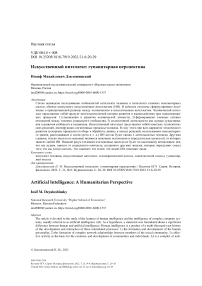Искусственный интеллект: гуманитарная перспектива
Автор: Дзялошинский И. М.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Современные медиакоммуникации
Статья в выпуске: 6 т.21, 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию особенностей интеллекта человека и интеллекта сложных компьютерных систем, обычно именуемого искусственным интеллектом (ИИ). В качестве гипотезы сформулировано положение о принципиальной разнице между человеческим и искусственным интеллектом. Человеческий интеллект представляет собой продукт многотысячелетней истории развития и взаимодействия трех взаимосвязанных процессов: 1) становления и развития человеческой личности; 2) формирования сложных сетевых отношений между членами социального сообщества; 3) коллективной деятельности как основы существования и развития сообществ и индивидов. Искусственный интеллект представляет собой комплекс технологических решений, имитирующих когнитивные процессы человека. В силу этого при всех вариантах технического развития (ускорение процессов по сбору и обработке данных и поиску решений, использование компьютерного зрения, распознавание и синтез речи и т. д.) ИИ всегда будет связан с деятельностью человека. Другими словами, только люди (а не машины) являются конечным источником и определителем ценностей, от которых зависит любой ИИ. Никакой разум (человека или машины) никогда не будет по-настоящему автономным: всё, что мы делаем, зависит от социального контекста, созданного другими людьми, которые определяют смысл того, что мы хотим достичь. Это означает, что за всё, что делает ИИ, отвечают люди.
Интеллект человека, искусственный интеллект, технократический подход, сциентистский подход, гуманитарный подход
Короткий адрес: https://sciup.org/147238027
IDR: 147238027 | УДК: 004.8 | DOI: 10.25205/1818-7919-2022-21-6-20-29
Текст научной статьи Искусственный интеллект: гуманитарная перспектива
В ночь под новый 2022 год в газете «Коммерсант» появилась статья известного в свое время политтехнолога В. Суркова, который поставил любопытный вопрос: станет ли когда-нибудь искусственный интеллект православным? 1 Разумеется, речь идет не о православии как таковом, а о возможности формирования в структуре искусственного интеллекта системы религиозных убеждений, которые не нуждаются в доказательствах, а принимаются на веру. Ставя этот вопрос, В. Сурков опирается на утверждение, что любая научная теория начинается с аксиом и постулатов, т. е. с утверждений, принимаемых без доказательств, на веру. Таким образом, акт веры предшествует процессу человеческого мышления. Религиозность предустановлена в структуре человеческого интеллекта, встроена в него, причем на самом фундаментальном уровне.
Отсюда вывод, который делает В. Сурков: если сильный искусственный интеллект есть эмуляция, т. е. воспроизведение структуры человеческого интеллекта на другом носителе, копирование архитектуры человеческого сознания в другом материале, перенос структуры человеческого интеллекта в машину, то вместе с переносом в машину структур человеческого интеллекта мы также перенесем и встроенную в эту структуру религиозность.
Отвечая на поставленный в статье В. Суркова вопрос, публицист М. Шевченко отверг саму возможность формирования религиозного интеллекта, поскольку, по его мнению, вера не подразумевает наличие интеллекта в принципе. С этой точки зрения, «ИИ может стать хоть православным, хоть кришнаитом, хоть буддистом, поскольку любой религиозный дискурс основан на логике, то есть интеллекте. Но ИИ не может стать верующим, поскольку интеллект не приемлет абсурда и не способен быть абсурдным» 2.
Анализ исследовательских подходов
В данном случае любопытно не содержание высказанных этими авторами идей, а сам факт обращения политических активистов к весьма далекой от сферы их интересов теме искусственного интеллекта. Впрочем, таких публикаций становится всё больше. Дискуссии по поводу использования так называемого искусственного интеллекта (ИИ) в различных сферах общественной жизнедеятельности, включая процессы массовой коммуникации, то вспыхивают, то угасают уже несколько десятилетий. Основанием для этих дискуссий стал тот факт, что в развитии человечества наступил этап, который с полным правом можно назвать циф- ровой цивилизацией, в разной степени охватившей все континенты и страны земного шара [Дзялошинский, 2020; Дзялошинский и др., 2020].
Одним из важнейших ресурсов цифровизации является ИИ 3. В январе 2016 г. основатель Всемирного экономического форума в Давосе К. Шваб назвал ИИ одной из основных движущих сил четвертой промышленной революции. Сейчас происходит качественный переход от вычислительной эры к эре когнитивной (в терминах футурологов – Second Machine Age ), когда компьютеры нового типа быстро учатся работать со структурированными, неструктурированными и нечетко структурированными данными, начинают замещать труд людей при решении большого количества когнитивных задач [Шваб, 2016].
Можно выделить несколько факторов, способствовавших огромной популярности проблематики ИИ.
Первый фактор – упрощенное представление об ИИ, навязанное сообщениями в СМИ, уделяющих повышенное внимание демонстрации антропоморфных роботов, бионических роботов, выполненных в виде животных и насекомых, а также реакции зрителей, которые восхищаются искусственными системами, соревнующимися с людьми, например, в шахматах, игре в настольный теннис или в древней китайской игре «го». Здесь, несомненно, присутствует ИИ, но всё это лишь его первые детские шаги.
Второй фактор – необходимость решить задачи, возникающие в сфере промышленной, сервисной, медицинской и военной робототехники, беспилотных транспортных средств и др. Понятно, что без систем ИИ полноценное развитие этих направлений невозможно. Как ожидается, успехи в создании ИИ дадут громадный прирост бизнесу стран, развивающих исследования в этой области.
Третий фактор – необходимость заменить человека компьютерными системами в процессах обработки больших массивов накопленных данных. ИИ работает с большими данными. Если нет интеллекта, эти данные не имеют смысла. Но если нет данных, интеллект – не более чем гаджет для разведки или штабной игры. Некоторые авторы утверждают, что большие данные и ИИ – это одно и то же, онтология новой цивилизации: вычислительные ресурсы и обучающее их записываемое многообразие общества.
Совокупное следствие указанных выше факторов выразилось в ускоренном внедрении в различных отраслях экономики и общественных отношений технологических решений, разработанных на основе ИИ. В Российской Федерации утверждена Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 г.
Внедрение технологий, основанных на использовании ИИ, даст весомый социальный и экономический эффект практически во всех областях. По оценкам экспертов, ожидается, что благодаря внедрению таких решений рост мировой экономики в 2024 г. составит не менее 1 трлн долл. США. По другим оценкам, внедрение технологий искусственного интеллекта уже к 2025 г. удвоит темпы роста ВВП ведущих стран мира и увеличит мировой ВВП на 15 трлн долл. 4
Стоит отметить, что всеобщий ажиотаж по поводу ИИ способствовал появлению весьма масштабных подделок. Продукт, на который повесили ярлык «ИИ», выглядит для людей более сложно, современно и надежно, вне зависимости от того, используется ли на самом деле и для чего используется в этом продукте ИИ. Согласно исследованию инвестиционной фирмы MMC Ventures 5, около 40 % европейских стартапов, заявивших об использовании ИИ, на самом деле не используют его в своих продуктах. Намерения создателей таких фирм понятны: в том же исследовании говорится, что стартапы из сферы ИИ привлекают в среднем на
15 % больше инвестиций, чем другие проекты, связанные с разработкой программного обеспечения.
В статье А. Десятовой для издания The Bell 6 разбираются случаи выдачи ручного труда людей за работу ИИ. Например, умное видеонаблюдение от Amazon или распознавание текста на бумажных документах. Автор отмечает, что отличить ИИ от ручного труда часто можно по ошибкам (у человека и компьютера – разная природа ошибок), а также говорит о невозможности стопроцентной гарантии качества при работе ИИ.
Однако в среде профессионалов идут нескончаемые споры по поводу будущего этой технологии 7.
Одни специалисты уверяют, что ИИ сделает людей более свободными. Они верят в прекрасное светлое будущее, где технологии машинного обучения и ИИ дадут нам не только свободу воли, но и свободу дополнительного времени.
Другие эксперты уверены, что цифровая реальность усилит неравенство в обществе. При помощи ИИ государство сможет ввести тотальный контроль над гражданами и принимать решения, нарушающие права человека. Эксперты выражают свою озабоченность тем, что алгоритмы ИИ не принимают во внимание социокультурные нормы и ценности.
Третьи исследователи полагают, что любая технология нейтральна. В каких-то руках она может использоваться во благо, в каких-то – во зло.
Четвертые специалисты напоминают о том, что ИИ вполне в состоянии манипулировать людьми и влиять на выбор человека 8. Об этом свидетельствуют три исследования, в которых ИИ наблюдал за тем, как люди делают выбор, и учился влиять на их выбор и манипулировать ими 9.
Отдельной темой является то, что по мере развития технологий машинного обучения происходит и неизбежное усложнение коммуникации между творцом (человеком) и творением (ИИ). Такое положение заставляет не только научный мир, но и бизнес-сообщество задаваться вопросом о том, как сделать подобное взаимодействие максимально бесконфликтным. Здесь на первый план выходит необходимость поиска путей преодоления этических и других социокультурных барьеров, зачастую мешающих плодотворному диалогу на «традиционном» уровне. Немаловажным фактором в этой связи является то, что на данный момент взаимодействие «человек – ИИ» находится всё еще в стартовой точке, и у профессионалов, представляющих различные отрасли знания и бизнеса, есть возможность, учитывая многовековой опыт непониманий «классического» диалога, обеспечить этому процессу нужное направление 10.
Предлагаемая концепция
Анализ этих и других высказываний дает основание для вывода о том, что, несмотря на большие достижения в сфере разработки всё более сложных алгоритмов, именуемых «слабым ИИ», вся эта сфера подошла к точке, которая в сказочных сюжетах обозначается как «витязь на распутье». В общем и целом можно констатировать, что сторонники развития ИИ рассматривают его чуть ли не как последнюю надежду человечества на решение всех возникающих проблем, а противники видят в нем силу, которая окончательно уничтожит цивилизацию.
Надо двигаться дальше, но в каком направлении?
Автор данной статьи, не будучи специалистом в области ИИ, полагает, что, обладая определенными познаниями в сфере гуманитаристики и коммуникаций, может предложить научному сообществу некоторые утверждения по поводу дальнейшего взаимодействия человека с ИИ. С нашей точки зрения, главное отличие живых организмов от неживой материи – способность получать информацию как о внешней среде обитания, так и о собственном состоянии, перерабатывать эту информацию и принимать на ее основе какие-то более или менее эффективные решения по поводу своего взаимодействия со средой. Эти процессы получения и переработки информации и принятия на этой основе решений обозначаются разными понятиями в зависимости от того, в рамках какой науки рассматривается живой организм, и от видения этой проблематики конкретным ученым.
Применительно к человеку эти процессы обычно обозначаются понятием «мышление», а инструментарий, с помощью которого осуществляется мышление, обозначается понятием «интеллект». Однако очевидно, что любые живые организмы обладают неким инструментарием восприятия и переработки информации и принятия на основе этой информации некоего решения по поводу своего поведения в окружающей среде. Нет никаких оснований не называть этот инструментарий интеллектом. Другое дело, что так понимаемый интеллект существует на определенной платформе: сначала это были простейшие живые организмы (амеба, инфузория-туфелька, бактерии и вирусы); потом биосоциальные (стайные) животные; затем человек как коллективное биосоциодуховное существо. Это означает, что, несмотря на обоснованность утверждения о физиологическом взаимодействии человеческого интеллекта и мозга, представляющего собой невероятно сложный комплекс из 86 миллиардов связанных друг с другом нейронов, он не может рассматриваться в качестве аналога вычислительной машины, которая более или менее успешно перерабатывает входящие сигналы и приводит в действие известные ей реакции [Анохин, 2021] 11.
С этой точки зрения интеллект как интегральное качество социального субъекта представляет собой продукт коллективной деятельности социального сообщества, голографическим элементом которого является отдельный индивид. Можно сказать еще жестче: индивидуальный интеллект есть инструмент реализации и усовершенствования некоей надличностной системы, которую некоторые философы предпочитают называть «абсолютной идеей», «мировым разумом» и т. п.
Примерно об этом же пишут известные специалисты в области когнитивной неврологии Стивен А. Сломан, Ричард Паттерсон и Арон К. Барби 12, которые утверждают, что годы исследований в области психологии, когнитивной науки, философии и антропологии показали, что человеческое познание – это коллективное предприятие, поэтому его нельзя найти в рамках одного человека. Человеческое познание – это возникающее свойство, которое отражает общие знания и представления, распространяющиеся внутри сообщества.
Можно предположить, что переход живых существ от одного (более или менее простого) ко всё более сложному типу как раз и определялся необходимостью усложнения платформы, на которой эффективность интеллекта могла проявиться в более высокой степени. Неслучайно в настоящее время происходит переход интеллекта на цифровую платформу.
Это означает, что человеческий интеллект представляет собой продукт многотысячелетней истории развития и взаимодействия трех взаимосвязанных процессов: 1) становления и развития человеческой личности; 2) формирования сложных сетевых отношений между членами социального сообщества; 3) коллективной деятельности как основы существования и развития сообществ и индивидов. Добавим к этому нерасторжимую связь интеллекта с эмоциональностью и волей.
Мозг с этой точки зрения представляет собой лишь платформу, на которой размещается интеллект, поэтому понятно, что обозначение даже самых сложных компьютерных программ понятием «интеллект» - не более чем метафора. Может быть, в каком-то очень и очень отдаленном будущем произойдет маловероятное: эти программы начнут ощущать, а точнее, переживать себя как уникальные неповторимые сущности; эти уникальные неповторимые сущности будут объединяться в некие сообщества; эти сообщества будут согласованно и осознанно выполнять некие сложные коллективные действия. Только тогда можно будет вновь вернуться к разговору о создании новой - цифровой - платформы для интеллекта.
Возвращаясь к вопросу, поставленному В. Сурковым, можно констатировать, что если тот конструкт, который обозначается понятием «сильный ИИ», когда-нибудь сумеет соединить в себе обозначенные выше личностные и социальные качества, то, вполне вероятно, в структуре мировоззренческих констант, на которые он будет опираться, будут смыслы, которые мы по традиции называем верованиями. Правда, вряд ли они будут похожи на верования, лежащие в основе современных религий.
В связи с этим стоит напомнить о голливудских фильмах: «Двухсотлетний человек» и «Я - робот». Может быть, следует в эту компанию добавить и испанский фильм «Страховщик». Речь, разумеется, не о художественных достоинствах или недостатках этих лент. Авторы этих фильмов отчетливо декларируют мысль о том, что качественные изменения в роботах происходят только в том случае, когда они осознают себя как субъектов действования, наделенных эмоциями и связанных с некими сообществами. То есть людьми.
На сегодняшний день прорисовываются три возможных варианта развития ИИ. Очень условно их можно обозначить такими понятиями, как технократический, сциентистский и гуманитарный подходы.
В основе технократического подхода лежит совокупность представлений, согласно которым в постиндустриальном мире будут царствовать науки и технологии, - соответственно, обществом будущего должны управлять специалисты-технократы. Небывалый технологический прогресс буквально во всех сферах (от бытового устройства до космических исследований) дает такой системе воззрений конкретные основания, а пионерские проекты обещают (например, в рамках нано-, био-, инфокогнитивной конвергенции) в короткое время фантастические перемены. Причем общий энтузиазм, поддерживаемый мощными проектами Google, Apple, Intel, вдохновляемый идеями К. Вентера и Р. Курцвейла, за полстолетия после первых работ провозвестников информационной эры, пожалуй, лишь возрастает [Дриккер, Маковецкий, 2016].
Сторонники технократической идеи полагают, что в новом мире будет создана мощная платформа принятия решений, опирающаяся на совокупность мнений ученых, инженеров, техников, специалистов и технологий. Именно эта платформа станет ведущей силой в эпоху глобализации мира и мировой экономики. Возникнет технократический строй с ресурсоориентированной экономикой, основывающейся не на товарно-денежных отношениях, а на наиболее эффективном распределении земных ресурсов, использовании альтернативных источников энергии, а также автоматизированном машинном управлении (с помощью ИИ) в масштабах земного шара. Естественно, не только ресурсы, но и результаты труда, т. е. товары и услуги, при новой модели распределения будут доступны каждому. Привлекательность такой модели для многих людей вполне очевидна.
Скептики утверждают, что человек в так понимаемой цивилизации рассматривается как элемент системы, винтик, который не обладает собственной ценностью. Он делается орудием производства продуктов, вещь становится выше человека [Бердяев, 1933]. Глобальную идею технократизма развил Л. Мамфорд. Воплощением принципа Мегамашины, по Л. Мам- форду, стал образ «Человека-Организации»: «Система как таковая является продолжением такого человека – от самых примитивных форм политической власти он выступает одновременно и как творенье, и как создатель, и как последняя жертва Мегамашины». Человек-Организация не есть изобретение нынешней эпохи или исключительно продукт современной техники. Лучшими считаются те его качества, которые соответствуют данному типу машины 13.
Самая знаменитая книга, в которой описан технократический мир, это антиутопия Дж. Оруэлла «1984». Однако многих современных авторов тоже мучает вопрос о том, что произойдет с обществом и человеком, если возобладает такая модель организации жизни. Блестящей иллюстрацией технократической культуры в действии является второй эпизод первого сезона телесериала «Черное зеркало» под названием «Пятнадцать миллионов заслуг».
К сожалению, критика технократизма очень часто ведется с позиций реставрации утопических идей о вселенской гармонии в искусстве и культуре, с позиций возвращения к религиозным концепциям, что, конечно, никак не способствует преодолению недостатков этой доктрины.
Сциентистский подход тоже связан с верой в то, что научное знание (естественноматематическое и техническое) является абсолютной ценностью. Однако сциентисты возражают против грубых технократических моделей социальных отношений, опирающихся на понимание человека как ресурса, и предлагают относиться к человеку как к «социальному капиталу» [Ziegler, 1982; Granovetter, 1985; Greve, 1995; Strang, 1998].
Современная версия сциентизма пользуется самоназваниями «постгуманизм» и «трансгуманизм».
Постгуманисты при всем их различии сходятся в одной точке: в отказе принимать классический гуманизм, которому они стремятся противопоставить образ «постчеловека», обладающего невиданными способностями.
Трансгуманизм представляет собой мировоззрение, основанное на осмыслении достижений и перспектив науки, которое признает возможность и желательность фундаментальных изменений в положении человека с помощью передовых технологий с целью ликвидировать страдания, старение человека и смерть, а также значительно усилить физические, умственные и психологические возможности человека. Главной целью трансгуманизма является бесконечное совершенствование человека, основанное на новейших открытиях научно-технического прогресса, с использованием разнообразных, преимущественно технологических способов.
Научному исследованию подвергаются процессы духовного потребления, которые рассматриваются как часть более общего процесса «обработки людей людьми». Разрабатываются технологии управления процессом формирования ценностных ориентиров личности, ее установок на определенные духовные ценности.
В каком-то смысле сциентистский подход представляет собой изощренную версию технократизма, но поскольку современная наука доказывает, что человек – существенно более сложная система, чем это представляется технократам, и методы работы с человеком должны склоняться к большей вариативности, то иногда сциентизм смыкается с гуманистической, солидаристской моделью коммуникации.
В основе гуманитарного похода лежит главный принцип всей гуманистической этики классического гуманизма – учение о высоком назначении человека, о его достоинстве.
Вопрос о том, что такое гуманизм, остается и сегодня важной теоретической проблемой. Мнения современных экспертов существенно различаются и порой весьма противоречивы.
Как отмечает Ю. Черный, понятие «гуманизм» имеет столько же определений, сколько имеется крупных философов 14.
На наш взгляд, представляется возможным выделить несколько взаимосвязанных и одновременно оппозиционных друг другу мировоззренческих систем: возрожденческий, инструментальный и новый гуманизм.
Для возрожденческого гуманизма характерно представление о человеке как о главной ценности, определяющей иерархию оценочных и деятельностных приоритетов, как о средоточии мира, его властелине. Предтечи западноевропейской цивилизации, а затем и гуманисты Возрождения полностью восприняли слова Цицерона о том, что «всё в этом мире, чем пользуются люди, именно для них создано и уготовано» [Цицерон, 1985, с. 153].
Существенной особенностью инструментального гуманизма является взгляд на человека как на обучаемый, программируемый компонент системы, как на объект самых разнообразных манипуляций, а не как на личность, для которой характерна не только самодеятельность, но и свобода по отношению к возможному пространству деятельностей.
Одним из негативных следствий формирования инструментального гуманизма явилось повсеместное распространение (по крайней мере, в странах европейско-американской цивилизации) мысли о том, что реальный «мир» и реальный «человек» есть лишь средства для создания, построения чего-то иного, более прекрасного и возвышенного. Поэтому в качестве центральных категорий мировоззрения многих людей стали выступать понятия «прогресс», «развитие», «революция» и т. п. Мировоззрение, опирающееся на эти категории, мы и называем «инструментальным гуманизмом».
Новый гуманизм , который мы связываем с именами А. Швейцера, В. Вернадского, Э. Фромма и других мыслителей ХХ в., опирается на представление о том, что все люди рождаются разными, но равными, и единственное предназначение каждого человека – полностью реализовать себя в этом мире, выявить все свои потенции на благо всех других людей. Тезис о том, что люди рождаются равными, предполагает, что «все они обладают основными человеческими качествами, все они разделяют общую трагическую судьбу и все имеют одинаково неотъемлемое право на свободу и счастье» [Там же, с. 220].
Но принцип равенства вовсе не предполагает, что все люди одинаковы. Новый гуманизм ценит в каждом человеке его оригинальность, особенность, спонтанность и категорически выступает против нивелирования людей, навязывания им однообразных шаблонов мышления, чувствования и поведения. Сторонники нового гуманизма требуют подлинного освобождения каждого человека от внешних оков, мешающих индивиду поступать в соответствии с собственными мыслями и желаниями. (Разумеется, речь идет о человеке, который действительно обладает собственными мыслями и желаниями.)
Свобода и творчество – вот основные ценностные ориентиры нового гуманизма. Смысл человеческой жизни с этой точки зрения заключается в развитии индивидуальности человека, реализации его личности. Это высшая цель, которая не может быть подчинена другим, якобы более достойным целям.
Однако новый гуманизм требует не просто свободы для человека (в этом случае речь шла бы о свободе и для бандита – в каком бы обличье он ни появлялся), а свободы для общего дела, дела возвышения всех живущих на Земле людей. Понятие «личность», как оно оформилось в европейской персоналистской традиции, не имеет ничего общего с обожествлением индивида. Личностью становится не каждый человек. Понятие «личность» предполагает предельное напряжение нравственных усилий, неустанную работу самосознания.
Характеризуя взаимоотношения между индивидом и обществом, новый гуманизм исходит из представления о том, что «свобода может победить лишь в том случае, если демократия разовьется в общество, в котором жизнь не будет нуждаться в каком бы то ни было оправдании, будь то успех или что угодно другое; в котором индивидом не будет манипулировать никакая внешняя сила, будь то государство или экономическая машина; и, наконец, в котором сознание и идеалы индивида будут не интериоризацией внешних требований, а станут действительно его собственными, будут выражать стремления, вырастающие из особенностей его собственного “Я”» [Фромм, 2021, с. 225].
Таким образом, речь идет о восхождении на новом историческом витке к подлинно гуманистическому мировоззрению, контуры которого довольно четко определены в виде следующих принципов гуманистической организации жизни общества:
-
• производство должно служить реальным потребностям людей, а не требованиям экономической системы;
-
• между людьми и природой должны быть установлены новые взаимоотношения, основанные на кооперации, а не на эксплуатации;
-
• взаимный антагонизм должен уступить место солидарности;
-
• целью всех социальных преобразований должно быть человеческое благо и предупреждение неблагополучия;
-
• следует стремиться не к максимальному, а к разумному потреблению, способствующему благу людей;
-
• индивид должен быть активным, а не пассивным участником жизни общества.
Заключение
Понятно, что только в рамках гуманитарного подхода возможно понимание ИИ лишь как одного из ресурсов (причем не самого главного), который имеется в распоряжении человечества, размышляющего о выборе стратегии дальнейшего развития. И эффективность использования этого ресурса будет определяться в зависимости от особенностей экономической и политической системы, которую конкретное сообщество использует для адаптации к изменяющимся условиям жизни. Одно дело, если в качестве такой системы используется универсальный механизм, состоящий из комбинации свободного рынка и трех независимых ветвей власти, функционирующих на основе законодательства, защищающего права человека, при наличии мощных негосударственных СМИ, способных обнаружить и обнародовать любые нарушения. И совсем другое дело, если ИИ станет ресурсом авторитарных или тоталитарных систем, какими бы наименованиями они ни прикрывали свою античеловеческую сущность.
Список литературы Искусственный интеллект: гуманитарная перспектива
- Анохин К. В. Когнитом: в поисках фундаментальной нейронаучной теории сознания // Журнал высшей нервной деятельности им. И. П. Павлова. 2021. T. 71, № 1. С. 39-71.
- Бердяев Н. А. Человек и машина (проблема социологии и метафизики техники) // Путь. 1933. № 38. C. 3-38.
- Дзялошинский И. М. Философия цифровой цивилизации и трансформация медиакоммуникаций. Челябинск: Изд. центр ЮУрГУ, 2020. 551 c.
- Дзялошинский И. М., Лободенко Л. К., Пильгун М. А. Социальные сообщества и коммуникационные сервисы в эпоху цифровой цивилизации. Челябинск: Изд. центр ЮУрГУ, 2020. 746 c.
- Дриккер А. С., Маковецкий Е. А. Формирование современных информационных идеалов // Культура и технологии. 2016. Т. 1. С. 32-40. DOI 10.17586/2587-800X-2016-1-1-32-40
- Фромм Э. Бегство от свободы. М.: АСТ, 2021. 288 с.
- Цицерон. Философские трактаты. М.: Наука, 1985. 382 c. Шваб К. Четвертая промышленная революция. М.: Эксмо, 2016. 208 c.
- Granovetter M. Economic action, social structure, and embeddedness. American Journal of Sociology, 1985, no. 91, pp. 481-510.
- Greve H. Jumping ship: the diffusion of strategy abandonment. Administrative Science Quarterly, 1995, no.40,pp.444-473.
- Strang D. Diffusion in Organisations and social movements. Annual Review of Sociology, 1998, vol. 24, no. 1, pp. 265-290.
- Ziegler R. Market structure and cooperation. München, 1982.