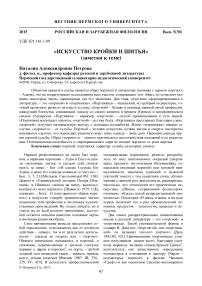«Искусство кройки и шитья» (заметки к теме)
Автор: Петрова Наталия Александровна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Язык, культура, общество
Статья в выпуске: 2 (30), 2015 года.
Бесплатный доступ
Объектом анализа в статье является образ портного в литературе (начиная с первого портного - Адама), что не подразумевает исследования всех текстов, содержащих этот образ, но позволяет выявить некоторые черты, характерные для его эволюции. Два типа, отчетливо сформировавшиеся в литературе, - это «портной» и «портняжка». «Портняжка» - маленький, но храбрый подмастерье, готовый променять ремесло на власть и славу; «портной» - бедняк и пьяница, верный своей профессии, жаждущий богатства, снимающий одежду со своего клиента в прямом (Гримм) и метафорическом смысле (Андерсен). «Портняжка - характер, «портной» - способ проникновения в суть вещей. «Портняжка воплощает героизм, «портной» - рутину быта. «Портняжка преуспевает благодаря удаче, «портной» получает материальную выгоду с помощью волшебства. Жизнь «портняжки» зависит от случая, «портного» - от судьбы. Портной - человек искусства, хозяин жизни и смерти: мастерство называется «делом», что порождает языковую игру: шить одежду - шить дело. Перешив одежды чреват сменой судьбы. Образ «портного» - символ трагического несоответствия ожиданий и их реализации. Потенциальная способность к «перекраиванию» мира не спасает портного от роли жертвы.
Портной, портняжка, характер, судьба, аллегория, символ
Короткий адрес: https://sciup.org/14729388
IDR: 14729388 | УДК: 821.161.1.09
Текст научной статьи «Искусство кройки и шитья» (заметки к теме)
Первым ремесленником на земле был портной, а первыми портными – Адам и Ева («и сшили смоковные листья, и сделали себе опояса-ния»), за ними – Бог («И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их» – Быт. 3, 7, 21)[Мильков, Смольникова1963: 168]. Дьявол в «Удивительной истории Петера Шле-миля» А. Шамиссо «похож на нитку, выскользнувшую из иглы портного» [Шамиссо 1979: 118], очевидно – Бога1. О популярности образа портного в искусстве говорит сравнительно частое появление этой профессии в заголовках художественных произведений. Не только описать, но и учесть их во всей полноте невозможно, доступной остается попытка наметить основные черты и интенции развития образа.
Само наименование ремесла представляет собой определение, отделившееся как от носителя действия – «швец», так и от результата деятельности – одежды из «порта» или – «портно». Швецом изначально назывались и портной, и сапожник, перечисляемые в детской считалке наравне с царем и королем2; из порта – грубой льняной или пеньковой ткани – шились, прежде всего, штаны (портки) [Фасмер 1987: III, 334– 335; IV, 419]. В результате профессиональной © Петрова Н.А., 2015
специализации портняжное ремесло раздробилось по типу выполняемых операций (закройщик), предмету изготовления (белошвейка), социальной (военный портной) или половой принадлежности заказчика (дамский и мужской портной); вместе с тем семантика слова, обозначающего данный род деятельности, расширилась настолько, что этимология его практически неощутима. «Швец», сохраненный фольклором, очевидно, обладал некой репрезентативной значимостью. Поговорка «И швец, и жнец, и на дуде игрец» включает его в ряд производителей основных продуктов – технологии, природы и искусства.
Два самых распространенных наименования швеца в русской литературе – это «портной» и «портняжка». Такой уменьшительной формы в словаре В. Даля нет, «портнягой» или «портнишкой» он называет плохого портного [Даль 1982:III, 323]. Наименование «портняжка», ставшее популярным, скорее всего, благодаря удачному переводу заглавия сказки братьев Гримм3, используется как качественное определение подмастерья в отношении к мастеру (Чарли – подмастерье портного в фильме Чаплина «Граф») и как оценочное (ласково-восхищенное или ласково-сострадательное) выражение отношения повествователя к герою4. Портняжке сопутствует храбрость, актуализирующая оксюмо-ронность телесной малости и величия духа. Сюжет истории о портняжке (аналогичный «Золушке», «Мальчику-с-пальчик» и т.п.) строится на превращении литоты в гиперболу; его архетипический образ являет собой смесь наивности, хитрости, легкомыслия, хвастовства, удачливости и провоцирует сочувственную иронию или ироническое сочувствие. Портняжка жаждет смены социального состояния, он стремится к власти и славе. Эта особенность сохраняется в искусстве последующего времени: портняжка Чарли Чаплина выдает себя за графа («Граф»); портняжка -авантюрист Гампл в «Фабрике Абсолюта» К. Чапека становится генералом и старостой, герой Мате Залки мадьяр Федри принимает участие в Октябрьской революции («Храбрый портняжка»).
Сказочные портные Г. Х. Андерсена не менее авантюрны, но деятельность их направлена не на формирование собственного имиджа, как в случае с портняжкой, а на разоблачение - в прямом и переносном смыслах - личностного и социального несовершенств. Портняжка - тип, портные - инструмент, способ познания и открытия сути. Они отступают на второй план; в литературный архетип превращается образ «голого короля», вынесенный в заголовок. В рассказе В. Шукшина «Как Андрей Иванович Куринков, ювелир, получил 15 суток» «профессиональный взгляд портного» разоблачает переодетого в военный мундир соседа-ювелира.
И в фольклоре, и в литературе профессия портного подразумевает склонность к воровству, к пьянству и бедность5. Эпитет «храбрый» по отношению к портняжке уже отдает тавтологией; «богатый портной»6 (название рассказа Ф. Искандера) - определение, выводящее героя из общего ряда. Богатство может достаться портному как результат упорного труда и как награда за добродетель. Так в еврейской притче бедный портной, на рынке перебивший «неслыханной суммой» последнюю рыбину у слуги знатного вельможи, объясняет свое поведение необходимостью почтить Йом Кипур, день, в который Всемогущий прощает грехи всего года. За свое благоговение и бескорыстие портной вознагражден - в рыбе он обнаружил драгоценную жемчужину. Аналогом жемчужины может стать билет государственного займа (к/ф « Закройщик из Торжка», 1925).
«Портняжка» воспринимается как начало героическое, портной - как бытовое. Успехи портняжки объясняются удачей, портного - волшебством: так Шолом-Алейхем отправляет то порт- ного Зетла, то неизвестного отца незаконнорожденного младенца за богатством в страну чудес -Америку («Касриловка», «Блуждающие звезды»). Жизнью портняжки правит случай, жизнью портного - судьба, да и сам он зачастую становится орудием судьбы. Судьба в античности ассоциировалась с прядением и пряхами, в литературе нового времени нить в свои руки готов взять портной.
В шекспировском «Макбете» привратник среди предполагаемых гостей, колотящих в дверь, перечисляет портного, земледельца и подкупного свидетеля. Поскольку привратник ощущает себя стоящим в дверях ада и во имя Вельзевула приветствует то повесившегося, то нагрешившего, всем суля пекло, то в образах «людей всякого звания» проступает нечто демоническое («Проходи, портной, в пекле будет тебе где нагреть утюг!»). Инфернальным искусителем, вершителем судьбы предстает портной Петрович - «одноглазый черт» - в гоголевской «Шинели» (Эпштейн 2000: 124). Портной может стать и носителем, и жертвой инфернальных сил.
В пересказанной Шолом-Алейхемом еврейской сказке «Заколдованный портной» [Шолом-Алейхем 1959: 7-50] понятие портновского мастерства подвергается еще большему дроблению: швец, портной, «заплатных дел мастер», портняжка (приходится полагаться на перевод М. Шамбадал). Повествователь называет своего героя портным, и сам Шимен-Эле Внемли Гласу как заклинание повторяет: «Шимен-Эле, портной из священного города Злодеевки, цеховик и староста в синагоге». Зато антагонист его Додя, «волосатый толстяк с огромным животом и носом картошкой», зажиточный и невежественный вдовец (портной - «маленького роста, замухрышка, бородка реденькая, козлиная, нос немного приплюснутый»), обзывает его «плюгавым портняжкой», а жена - «никудышником» и «размазней».
Сам Шимен-Эль отчетливо разделяет два рода профессиональной деятельности по критерию портновского мастерства («Вы не думайте, что имеете дело с каким-нибудь портняжкой!»), но черты портного и портняжки в нем совмещаются. Как положено портному, он - «горемычный бедняк, можно сказать почти нищий», выпивоха и «благочестивый труженик», попытавшийся разбогатеть, приобретя козу. Как портняжка он хвастлив, жаждет почестей («Наш брат мастеровой отличается тем, что каждому нравятся почести...») и ввязывается в авантюру. Таким образом, самоопределение Шимена-Эле включает в себя разошедшиеся было противоположности.
Нельзя сказать, что герой Шолом-Алейхема перепадает из одного состояния в другое. В начале повествования говорится, что он был в «большом почете», потому что «умел, как никто, поставить заплату, заштопать дыру, чтобы незаметно было, или перелицевать какую угодно одежку, вывернуть ее наизнанку». Портной и портняжка едины как перелицованная одежка, что и откликается мотивом «оборотничества». «Устрою же я тебе козу», – замышляет Додя, и эта коза-розыгрыш реализуется козой, превращающейся в козла и усаживающейся «рядом, поджав ноги», как обычно сидит портной.
Шимен-Эль – жертва злой шутки, но еще больше собственной раздвоенности. Он чванится своей «ученостью», слывет «музыкантом» («грамотеем») и смиренно сознает себя придатком собственного ремесла («Наш брат мастеро-вой...Утюг да ножницы»). «И был этот человек портным», – начинает повествование Шолом-Алейхем, а жена героя завидует соседке, у которой муж «хоть и портной, а все же человек!». Шимену-Эль даже во сне видит себя «за рабочим столом», на котором «разложено некое странное одеяние», превращающееся в новый «субботний сюртук» – неотъемлемую принадлежность обязательного досуга. На смену оксюморону портного и портняжки приходит другой – портного и человека: «Плоди детей! Мучайся и мытарься всю свою жизнь! Ибо для того ты создан – на то ты и портной!..» – как тут не вспомнить «истории об оживших мертвецах, блуждающих по миру в саванах...» и гоголевское двойничество.
Носителем судьбы предстает портной в «Египетской марке» О. Мандельштама [Мандельштам 1990: 2, 59–87]. В классическом «портновском» сюжете русской литературы – гоголевской «Шинели» – портной призван одевать, раздевают «воры», «какие-то люди с усами». У Мандельштама портной и есть вор, покушающийся уже не на часть материала, а на готовый продукт собственного производства: «Настоящий портной – это тот, кто снимает сюртук с неплательщика среди бела дня на Невском проспекте». В рассказе о том, как молодой Яхонтов читал гоголевский текст, Мандельштам останавливается на процессе одевания: «Показывая, как портной Петрович облачает Акакия Акакиевича в новую шинель, Яхонтов читает бальные стихи Пушкина –“Я черным соболем одел ее блистающие плечи…”». В «Египетской марке» Мервис совершает только противоположное действие – «снимает сюртук», «снял визитку с плечика…», – и действие это, отрываясь от исполнителя, приобретает характер, обобщающий и обличающий суть «перелицованного» мира – «То было страшное время: портные отбирали визитки…».
Героя мандельштамовского повествования роднит с неназванным прямо Акакием Акакие- вичем существование в атмосфере всеобщей нелюбви и презрения, «чай с сухариками, которые он любил, как канарейка» (у Гоголя – «чай с копеечными сухарями») и насильственное раздевание, ведущее к смерти («Ах, Мервис, Мервис, что ты наделал? Зачем лишил Парнока земной оболочки…»). «Носовой платок», в котором приносит шинель Петрович, откликается «белым саваном» «чистой полотняной простыни», а сам портной напоминает «члена похоронного братства, спешащего в дом, отмеченный Азраилом, с принадлежностями ритуала».
Родословную Парнока Мандельштам возводит к Голядкину, что позволяет развернуть тему неудачливого (Парнок) и удачливого (Кржижановский) двойников [Берковский 1929: 301], в сущности, романтическую тему тени, победившей своего хозяина. В действительности, говорить приходится не о двойниках, а о гораздо более сложной системе отношений. Музыкальное пристрастие Парнока приравнивает его не столько к Акакию Акакиевичу, сколько к тому отставному музыканту, с которого мертвец пытался «сдернуть фризовую шинель». И Парнок, и повествователь, и Мервис – люди искусства.
«Портное искусство» гоголевского Петровича у Мандельштама названо «портняжным делом», но сам портной – «художником», «вдыхающим жизнь» в результат своего творения. Процесс создания коллажного текста «Египетской марки» повествователь описывает как процесс, равнозначный действиям Мервиса: «Стригу бумагу длинными ножницами. …Не боюсь швов.… Портняжу, бездельничаю». Последнее в большей степени соответствует Парноку; соединительным звеном между ним и Мервисом на сюжетном уровне является повествователь, как на фабульном Парнока и Кржижановского соединяет Мервис. Тема искусства дополняется «птичьим воздухом портновской квартиры», глухонемыми, говорящими «на языке ласточек», шьющими рубашку из воздуха, прядущими «быструю пряжу» жизни. Кроме того, описание Мервиса вторит описанию С. Михоэлса в посвященном ему очерке (тема фарфора, «слепого лица», ср.: «подслеповатого Акакия) и портного Сорокера, сыгранного Михоэлсом в спектакле «200 000» по Шо-лом-Алейхему [Барзах 1989]. С темы портного, покроя как «внутренней пластики гетто» и начинается очерк «Не Альтман ли делал вам костюм?».
Мир «Египетской марки» населен людьми с прямо или косвенно указанной национальной принадлежностью: прислуга-полька, торгующий китаец, чех-зеркальщик (в черновых вариантах – латышка Эмма, глухонемые-армяне). Прототипом Мервиса считается портной-чех В. Кубовец
[Нерлер1990: 408]. В повести Мервис – еврейский портной, образ, канонизированный Шолом-Алейхемом, скульптурой конца XIX («Еврей-портной» М. Антокольского) и живописью начала XX в. (витебская школа). В отличие от Шапиро, стоящего ниже всех «на социальной лестнице», и его жены-белошвейки, это портной-мечтатель: «чудаковатый» Петрович, кроящий ножницами воздух, «блаженный неудачник» Со-рокер, Мервис, у которого «в голове … совсем не портняжное дело», похищающий визитку «как сабинянку».
В образе Мервиса, возможно, есть элемент литературной полемики с «Пощечиной общественному вкусу», где портной служит синонимом филистерства в искусстве: «Всем этим Максимам Горьким, Куприным, Блокам, Сологубам, Ремизовым, Аверченкам, Черным, Кузьминым, Буниным и проч. и проч. – нужна лишь дача на реке. Такую награду дает судьба портным» [Маяковский 1961: 13, 245]. Если вспомнить Сашу Черного – «Все в штанах, скроенных одинаково…», – то портному как унифицирующему началу («и проч. и проч.») вполне может противостоять самодельная желтая кофта. У позднего Мандельштама унификация, приобретающая внеличностный характер – «эпоха Москошвея», остается в пределах портновской терминологии (шить по одной мерке, мерить на свой аршин). В «портновском деле» обнаруживается обусловленная временем двусмысленность: шить одежду и «шить дело». Художник может отдать себя на волю или произвол пространства и времени; портной – проявить изворотливость портняжки:
Один портной
С хорошей головой
Приговорен был к высшей мере.
И что ж? – портновской следуя манере,
С себя он мерку снял –
И до сих пор живой7.
[Мандельштам 1990: 1, 362]
Начиная с «Шинели» из всех изделий портного на первый план выходит верхняя одежда – «новые панталоны» и рубашки для Акакия не составляют такой проблемы, как шинель. Шуба («Шуба» и «В не по чину барственной шубе»)8, визитка, сюртук («Мервис не чувствует кроя визитки – он сбивается на сюртук»), пиджак («Смотрите, как на мне топорщится пиджак»), кожаное пальто («Искусство кройки и шитья» Ю. Окуджавы) служат знаками несоответствия натуры и судьбы, безосновательности притязаний. Судя по тому, что существовал такой вид квалификации, как «портной без права шить пиджак» [Табаков 2000: 250], сей предмет туалета наиболее сложен в процессе изготовления. Язык свидетельствует и о том, что пиджак обладает более выраженной личностной характеристикой: шуба «с чужого плеча» не так очевидна, как пиджак. «Старый пиджак» Б. Окуджавы совмещает проблематику Гоголя и Беранже [Жолковский], но совершенно очевидно, что этот портной не избежал всей разветвленности сложившихся традиций и мандельштамовского опыта. Портновские изделия служат мерой биографического времени9, а тема облачения-разоблачения дополняется темой переодевания, интерпретируемой как перемена участи: «Затихнет шрапнель и начнется апрель. | На прежний пиджак поменяю шинель» [Окуджава 1996: 142].
У Окуджавы есть «военные портняжки» – «золотые мастера» (а не подмастерья), шьющие командирам мундиры-саваны на их погибель и славу («И поэтому мундиры так кроятся день и ночь, чтоб блистали командиры, уходя из жизни прочь»). Есть портные, обладающие божественным всемогуществом («И только там живет один такой закройщик, что мог по-новому скроить судьбу мою»). Есть тема «перекроя» и «перешива» как перемены судьбы, осознанной утопии, недостаточности усилия («Я говорю ему шутя…»), одинаковой возможности счастья («Сулит мне новые удачи искусство кройки и шитья») и несчастья («И наступила главная проверка, Как в ателье последняя примерка»). Пиджак служит мерой биографического времени:
Поистерся мой старый пиджак,
Но уже не зову я портного:
Перекройки не выдержать снова –
Доплетусь до финала и так.
[Окуджава 1996: 511]
Героем стихотворения «Старый пиджак»10 оказывается не пиджак, вынесенный в заглавие, а портной-художник, мечтатель и «чудак». Искусство уподобляется шитью («Арбатского романса знакомое шитье…»[Окуджава 1996: 253]. Профессиональное мастерство и подлость у Окуджавы не совместны, как гений и злодейство («Как вам удается совмещать шпионство и шитье?» – хотел спросить изумленный Мятлев, но не спросил»), его «закройщик и одновременно секретный агент, или агент и одновременно секретный закройщик» – та же реализация двойственности «портняжного дела» [Окуджава 1986: 179, 237]. В рассказе «Искусство кройки и шитья» герой – обладатель «студенческой куртки из какого-то старорежимного истершегося драпа», начиная учительствовать, обзаводится призванным демонстрировать «солидность» пальто из драпа, похожего на «листовую фанеру». Вдруг возника- ет возможность пошить кожаное пальто, реализовать немыслимую мечту («оно сияло в толпе, подобно драгоценному камню среди булыжников и несло на себе печать заграничного благополучия и признаки причастности к особому клану отмеченных капризной фортуной»), сменить место («Сошьем пальто и поедем в Москву?») и род занятий. «Пересохшая душа» жаждет «выглядеть с иголочки», т.е. родиться заново (поездка к скорняку предусматривает переправу через реку). Все завершается милицейской камерой, к счастью, без особых последствий: «А может быть, окажись я тогда на вокзале в черном кожаном пальто – неизвестно, где бы я сейчас находился. А тут корявый пиджачок, какие были на всех…» [Окуджава 1998: 152, 151, 158, 176]11.
Иной поворот портновская тема получает в автобиографическом романе Г. Миллера «Черная весна»: «сын портного» («До меня все в нашем семействе что-то делали своими руками») – своего рода смесь «заблудшего бюргера» и «художника в юности», «желудь», отпавший от «великого дерева» [Миллер 2000]. Портной должен приспосабливаться, «угождать» (из всех значений слова tailor Миллер выделяет это). В функции портного акцентируется предшествующее одеванию раздевание,, обнажающее тело и душу: «когда они были без штанов; я видел их скрюченные позвоночники, хрупкие кости, их варикозные вены, опухоли, впалые груди, толстые животы, отвисшие оттого, что столько лет мотались, как бурдюки. … Можно было подумать, что, раздеваясь перед своим портным, они испытывали потребность выплеснуть и всю мерзость, что скопилась в прикрытых сверху выгребных ямах, в которые они превратили свои души». Сам «сшитый и не раз перешитый», художник уподобляется портному, лицующему мир («Мои нежные руки в теле мира, копошатся в его теплых внутренностях, укладывая и перекладывая, кромсая и сшивая вновь»), а «старая вселенная» – «комнате мелкого ремонта», где «никогда не шьется новый костюм, никогда не происходит акта творения» (глава «Мужской портной»). Портной в романе – немец, а закройщик и подмастерья – евреи. «Муки неразделенности» – непринадлежности (семье, Америке) и неотрывности, специфического притяжения-отталкивания создают ту еврейско-немецкую атмосферу, что была свойственна еврейскому театру, во времена запрета (1883 г.) играть на родном языке.
Миллеровская проблематика, втягивающая в портновское ремесло мотивы болезни, смерти, сумасшествия, эротики, инцеста, находит парадоксальный отклик в романе Ф. Рота «Случай Портного» (в другом переводе – «болезнь», хотя, может быть, и «жалоба»). Оригинальное название романа, в котором слову «портной» заглавная буква обеспечена его местом («Portnoy’s Complaint»), порождает языковую игру, латентно прикрепляющую повествование к традиции.
В фольклоре образ портняжки – символичен, его героические свершения не обусловлены ремеслом, но противостоят ему и от ремесла уводят. Повествование о портном, сохраняющем верность своему делу (известный анекдот о портном, который «немножко бы шил», даже став королем), тяготеет не к сказке, но к иносказанию, к притче.
Если в русской литературе рубежа XIX–XXвв. различие двух образов и сюжетов было очевидным, а их совмещение и скрещивание эстетически значимым, то в 20-е гг. оно уже требует пояснений. Примером тому – рассказ «В цирке» Ю. Олеши: «Современный канатоходец имеет вид портного. Да, он портняжка, – и не тот сказочный портняжка, который спорил с великаном и мог бы оказаться сродни сказочному нашему канатоходцу, – а самый обыкновенный городской портняжка в котелке, пиджачке, с усиками и с галстуком набекрень...» [Олеша 1965: 353– 357]. Образ портняжки в литературе 20-х практически отсутствует, а если и встречается, то как результат полного отсутствия языкового чутья, что порождает незапланированный комический эффект: «Он очень мил, мой дядюшка, портняжка, Сердечный, вечный самогонки друг, Зимой и летом пышащий так тяжко, Что позавидует утюг» («Дядя или солнце?» [Казин 1960: 31].
На смену портняжке приходит портной. В «Храброго портного» по имени Ганс превращается портняжка в пересказе А. Введенского (редактор – С. Маршак, 1935), причем, в отличие от канонического перевода и в соответствии с наименованием, он не становится королем, а продолжает «себе спокойно жить да поживать, куртки, штаны и жилетки шить».
История портного сохраняет иносказательный характер, но сам образ его символизируется, наполняясь семантикой несоответствия притязаний и судьбы, личности и социальной роли. Потенциальный носитель божественной способности «перекраивать» мир и судьбы, портной – жертва собственной судьбы и мировой истории. Особый статус в этом смысле приобретает образ еврейского портного – жертвы Холокоста (от «Дамского портного» А.М. Борщаговского или «Интервью» П. Суэта до детектива И. Хмелевской «Тайна», где манекен, в конечном итоге оказывающийся мумифицированным трупом, с готовностью приписывают еврею-портному, бежавшему от немцев). В массовой культуре формирующиеся тенденции приобре- тают простоту и очевидность; так, востребованность стилизаций (например, «Песня еврейского портного» А. Розенбаума) объяснима тем, что банальные ламентации могут быть без труда спроецированы на жизнь любого человека независимо от его национальной или социальной принадлежности. В последние годы популярность возвращается и образу «храброго портняжки», зачастую в форме автохарактеристики, не лишенной инфантильного самолюбования (например, «Я, как портняжка братьев Гримм, к его стволу прирос (а чтобы ветер не унес – утюг держал в руке)» – А. Петрова). Инициатором этого возрождения, возможно, стоит считать Э. Лимонова: начинающий поэт, зарабатывающий шитьем брюк, и эпатажный писатель, храбро восставший против существующего мироустройства – вот исходный и пока конечный пункты заботливо создаваемого имиджа.
Perm State Humanitarian-Pedagogical University
Список литературы «Искусство кройки и шитья» (заметки к теме)
- Аксенов В. Три шинели и Нос//Негатив положительного героя. М.: Вагриуы, 1996. С. 3452
- Барзах А.Без фабулы. Вблизи «Египетской марки» О. Мандельштама//Поскриптум: лит. журн. 1998. Вып. 2 (10). С. 183-210
- Берковский. Н. О прозе Мандельштама//Звезда. 1929. № 5. С. 160-168
- Городецкий Л. Р. Символика верхней одежды у О. Мандельштама («Шуба», «Шинель», «Лапсердак»)//Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2010. № 5 (11). С. 140-146
- Даль В. И. Толковый словарь живого русского языка: в 4 т. М., 1982. Т. III
- Жолковский А. «Рай, замаскированный под двор»: заметки о поэтическом мире Булата Окуджавы//Избранные статьи о русской поэзии. Инварианты, структуры, стратегии, интертексты. М.: Изд-во РГГУ, 2005. С. 109-135
- Казин В. В. Лирика. М.: Сов. Писатель, 1960.242 с
- Левитанский Ю. Д.Избранное. М.: Худож. лит.,1982. 560 с
- Мандельштам О. Э. Сочинения: в 2 т. Т. 2: Проза. Переводы. М: Худож. лит.,1990. 464
- Маяковский В. В. Полн. собр. соч.: в 13 т. Т. 13. М: ГИХЛ, 1961.627 с
- Миллер Г. Черная весна: Роман, повести, рассказы, эссе.СПб.,2000. 333 с
- Нерлер П. М. Комментарии//Мандельштам О. Э. Сочинения: в2 т. Т. 2. М.: Худож. лит.,1990. С. 378-461
- Окуджава Б. Ш. Путешествие дилетантов. М.: Известия, 1986. 560 с
- Окуджава Б. Ш. Чаепитие на Арбате. Стихи разных лет. М.: Корона-спринт, 1996. 576 с
- Окуджава Б. Ш. Стихи. Рассказы. Повести. Екатеринбург: У -фактория, 1998. 400 с
- Олеша Ю. К.Повести и рассказы. М., 1965. С. 353-357
- Пастернак Б. Л.Стихотворения и поэмы. М.; Л., 1965. С. 304-342
- Петрова Н. Система заглавий в «Негативе положительного героя» В. Аксенова//Поэтика заглавия. Москва; Тверь, 2006. С. 314-316
- Петрова Н. Образ еврейского портного в литературе//Ebreju teksts Eiropas kultura. Daugavpils, 2006. The Jewish Text in Europian Culture. Latvian-Jews-Russian Culture Dialogues. Issue 1/Almanac of The Institute of Comparative Studies. Vol. 4. Red. 2006. 268 lp
- Рот Ф. Случай Портного. СПб., 2001. 288 с
- Табаков О. Моя настоящая жизнь. М.: Изд-во «Моск. театр», 2000. 496 с
- Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. М., 1987
- Чуковский К.Дневник (1901-1929). М.: Сов.писатель, 1991.343 с
- Шамиссо А. Удивительная история Петера Шлемиля//Избранная проза немецких романтиков: в 2 т. Т. 2. М.: Худож. лит.,1979. С. 112-167
- Шолом-Алейхем. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 4. М., 1960. С. 7-50
- Эпштейн М. Н. Фигура повтора: философ Николай Федоров и его литературные прототипы//Вопр. лит. 2000. № 6. С. 114-124