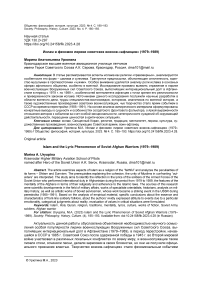Ислам и феномен лирики советских воинов-«афганцев» (1979-1989)
Автор: Урюпина Марина Анатольевна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Культура
Статья в выпуске: 4, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются аспекты ислама как религии «правоверных», анализируются особенности его форм - шиизма и суннизма. Трактуются предпосылки, объясняющие сплоченность, единство мусульман в противостоянии «чужим». Особое внимание уделяется анализу роли ислама в основных сферах афганского общества, особенно в военной. Исследование призвано выявить отражение в лирике военнослужащих Вооруженных сил Советского Союза, выполнявших интернациональный долг в Афганистане в период с 1979 г. по 1989 г., особенностей менталитета афганцев с точки зрения его религиозности и приверженности законам ислама. Источниками данного исследования послужили научные разработки в области военного дела, труды специалистов-востоковедов, историков, аналитиков по военной истории, а также художественные произведения советских военнослужащих, чье творчество стало ярким событием в СССР во времена перестройки (1985-1991). На основе анализа эмпирического материала сформулированы конкретные выводы о сущности и особенностях солдатского фронтового фольклора, о яркой выраженности отношения авторов к событиям за счет особой эмоциональности, категоричности суждений об окружающей действительности, переоценки ценностей в критических ситуациях.
Ислам, священный коран, религия, традиции, менталитет, лирика, культура, художественные произведения, военнослужащие советской армии, воин-афганец
Короткий адрес: https://sciup.org/149142502
IDR: 149142502 | УДК: 130.2+297 | DOI: 10.24158/fik.2023.4.28
Текст научной статьи Ислам и феномен лирики советских воинов-«афганцев» (1979-1989)
конца XX в., но его научное осмысление не нашло достаточного отражения в исследованиях отечественных аналитиков. Изучение этого феномена тесно связано с опытом современных военных конфликтов, возрастающим интересом общественности к творчеству военнослужащих – участников различных войн, непрофессиональных поэтов, певцов, художников, в том числе в военной операции российских вооруженных сил против нацистского режима на Украине. Военный фольклор является частью мировой культуры и его исследование в данный исторический период является актуальным и необходимым (Лебедева, 2009).
Цель публикации – выявить сущность, содержание и особенности лирики советских военнослужащих, с одной стороны, отразить идейную квинтэссенцию народа Афганистана в его традиционной борьбе с «чужими» – с другой. Предмет настоящего исследования – стихи и песни военнослужащих Вооруженных сил Советского Союза, проходивших службу в Демократической Республике Афганистан в период с 1979 по 1989 гг.
Исследование осуществлено на основе методологии диалектического, структурно-функционального анализов, герменевтики, принципов научной объективности и историзма.
Научная новизна работы отражена, во-первых, в уникальности самого объекта исследования. Во-вторых, – в методологии комплексного анализа феноменов ислама, с одной стороны, и лирики советских воинов-«афганцев» – с другой. В-третьих, – в исследовании проблемы именно в культурологическом аспекте.
Геополитическое расположение Афганистана на евразийском континенте между Южной и Центральной Азией и Ближним Востоком делает страну стратегическим плацдармом. Находилось и находится много международных акторов, желающих заполучить его, чтобы была возможность контролировать и влиять на политику стран региона. Поэтому Афганистан является объектом внимания военных, политиков, историков, искусствоведов, этнографов, геологов и др.
Среди наиболее известных российских, советских ученых, изучавших Афганистан, особо стоит выделить геополитика, военного теоретика, военного географа и востоковеда А.Е. Снеса-рева. Являясь военным, он в первую очередь изучал Афганистан с этой точки зрения: географию, этнический состав населения, менталитет афганцев, преданность исламу и др. Его труд «Афганистан» (Снесарев, 1921) современниками был недооценен, но в настоящее время к книге обращаются все чаще, так как суть ее актуальна и в наши дни.
Весомый вклад в изучение региона внес английский публицист и член Лондонского Королевского географического общества Ангус Гамильтон. В монографии «Афганистан» (Гамильтон, 1908) он описал географию страны, ее политическое, экономическое и военное устройство на начало XX в.
Огромный вклад в изучение истории стран Южной Азии и Среднего Востока внес советский историк, востоковед Ю.В. Ганковский. Широко известны его работы: «Империя Дуррани» (1958), «Афганистан: прошлое и настоящее» (1981), «История Афганистана с древнейших времен до наших дней» (1982) и др.
Источниковой базой исследования послужили материалы трудов по истории, политике, религии и культуре Афганистана авторов: М.А. Конаровского (2020), Ш. Имомова (2003) и др.
Военный конфликт в Афганистане в 1979–1989 гг. с участием Вооруженных сил СССР нашел отражение в работах непосредственных его участников, например, А.А. Ляховского (1991, 1995) и др., которые освещали не только военные события, политическую ситуацию на данный период времени, но и отмечали доблесть, честь, мужество и героизм советских военных.
Участие Вооруженных сил СССР в конфликте в 1979–1989 гг. в Демократической Республике Афганистан (1978 –1987) , исламская проблематика, джихад, пропаганда, проблема сохранения памяти об этих событиях – объект изучения Т.В. Рабуш (Рабуш, 2016).
Исторической психологии, военной психологии, военной социологии посвящены работы Е.С. Сенявской (Сенявская, 2006, 1999). Особо хочется отметить ее работу «Психология войны в ХХ веке. Исторический опыт России», основу которой составляют архивные документы, личные дневники воинов-«афганцев», их записки, факты, полученные при личной беседе. Много внимания уделяется доминирующей религии Афганистана – исламу, его влиянию на население, а также восприятию нашими воинами-«афганцами» исламского общества (Сенявская, 1999).
Большую работу по изучению непрофессиональной военной песни провел филолог В.А. Липатов, область научных интересов которого – уральский фольклор, обрядовая поэзия, армейский и военный фольклор. В.А. Липатов имеет много научных трудов, но особого внимания, на наш взгляд, достойна монография «Солдат и песня: 300 лет вместе» (Липатов, 2006). Автор отразил историю русской армии с нововведений Петра I до локальных конфликтов XX в. сквозь призму непрофессиональной поэзии офицеров и солдат.
Монография «20-тилетию вывода Советских войск из Афганистана посвящаем. Культурологический аспект творчества воинов-афганцев» о самобытности творчества воинов-интернационалистов, их культурологической значимости была написана Н.А. Лебедевой в 2009 г. Автор обосновал культурологическую весомость поэтических произведений военнослужащих Ограниченного контингента советских войск (далее – ОКСВ) в Афганистане и необходимость практического применения их творчества в педагогике. Н.А. Лебедева приходит к выводу, что в основе военно-патриотического творчества, которое есть явление духовной сферы жизни человека, лежат патриотизм, любовь и преданность своему Отечеству, воинский долг и честь советского воина, национальная культура. В заключении к своей книге автор подчеркивает, что творчество воинов-интернационалистов является сокровищницей опыта и мудрости, приобретённых в нечеловеческих условиях, и помогает осознать философскую глубину и ценность жизни. Монография «20-тилетию вывода Советских войск из Афганистана посвящаем. Культурологический аспект творчества воинов-афганцев» остается самым емким трудом в этой области.
Директива Министра обороны СССР №312/12/001 о вводе ОКСВ в Демократическую Республику Афганистан (далее – ДРА) была подписана 24 декабря 1979 г.1 А.А. Ляховский, В.М. Забродин приводят слова советского партийного, государственного деятеля и дипломата А.А. Громыко об этом, который говорил, что перед армией были поставлены задачи по урегулированию внутренней обстановки в Афганистане, оказании гуманитарной помощи местному населению и его защите от многочисленных банд. Также Громыко указал, что нахождение советских войск в ДРА было гарантией безопасности южных рубежей Советского Союза (Ляховский, Забродин, 1991: 29). Один из участников афганского конфликта в стихотворении дает такую оценку этому решению:
О, сколько раз ввергало нас
Совпартократов своеволье –
Что им народа божий глас! –
В пучину всенародной боли.
Замыслил поиграть с огнем
За счет безгласного народа2.
Мало кто из личного состава ОКСВ понимал, с кем предстоит воевать, с какой целью идут войска в чужую страну и как долго продлится эта «интернациональная миссия», но поход не воспринимался серьезно. Представлялось, что Афганистан «застрял» в средневековье и, уступая в военном потенциале мощи СССР, вести военную борьбу с мощнейшим государством мира – СССР – не сможет:
Казалось: дело будет кратким.
А что успешным – без сомненья.
И все закончится в палатках,
Как на обыденных ученьях.
А как бы вы предполагали? –
Страна на уровне мотыги.
Их архаичные пищали
И наши новенькие МиГи3.
Но все же многие испытывали душевный дискомфорт, шагая по мосту пограничной реки Амударья на территорию соседнего Афганистана 25 декабря 1979 г. Дальнейшие события показали, насколько точным бывает «солдатское чутье»:
Верны солдатские догадки –
Народ умен, он не профан4.
Но есть приказ…
Приказ: «Идем в Афганистан!
Там революцию, свободу
Низвергнуть вздумал внешний враг.
Поможем братскому народу!
При нас не сунется чужак.
В том – долг интернациональный.
К тому ж родные рубежи
Прикроем от беды глобальной…»1.
Указывая на особенности менталитета «нашего народа»: доверие власти, приоритет общественного блага над своими личными интересами, милосердие, чувство долга и верность ему, сострадание и др., автор пишет, что:
Как не поверить этой лжи!
Мы верили решеньям власти,
Не предрекая их исход,
Идя безгласно в пасть напасти.
Так приучили наш народ.
Помочь соседу бескорыстно
Всегда придем – лишь позови.
И добродетель эта присно
Из рода в род у нас в крови2.
В армии приказ не обсуждают, его выполняют, невзирая на пугающие предчувствия и догадки.
Приказ для воинов – закон,
Не подлежащий обсужденью.
А если «верхом» утвержден,
Тем более места нет сомненью3.
Дальнейшие события показали, что правительство СССР неверно оценило обстановку, не учло социокультурные особенности населения Афганистана: преобладание доминирующего этноса – пуштунов, специфику их уклада жизни и миросозерцания: религиозность и фанатичную преданность исламу, традиции, также не были учтены численность и динамика роста населения, соотношение по гендерному типу, по возрасту и др. (Урюпина, 2021: 64–65).
По Конституции 2004 г. Афганистан является исламской республикой4. Ислам имеет статус государственной религии, но оговаривается, что последователи других верований могут исповедовать свою религию в рамках закона. А вот переход из ислама в другую веру считается отступничеством и карается строжайшим образом вплоть до смертной казни (Цмай, 2021: 264).
Что такое ислам для афганца детально поясняет статья «Халифат и власть», опубликованная в газете «Иттифаки ислам» от 13.06.1988 г.: это «путеводная звезда к лучшей жизни, не ограничивающейся исключительно исполнением религиозных обрядов»5.
Столкнувшись с религиозностью афганцев, советские военнослужащие уяснили для себя одну истину:
Там народ неторопливый, почитающий Коран,
Где написано красиво о законах мусульман.
Там поклонники Хайяма, знатоки Фердоуси,
Но о принципах ислама спорить боже упаси!6
Большая часть населения Афганистана, это примерно 85–90 % граждан, – мусульмане. Примерно 10–15 % – это последователи христианства, буддизма, индуизма, зороастризма, сикхизма, синкретических верований, традиционных доисламских верований. Основная религия – ислам – разделяется на два главных течения: суннитов (71 %) и шиитов (19 %). Первые из названных – сторонники «правоверного» ислама, приверженцы сунны и идеи выборности халифов. Вторые – чтут сподвижника пророка Мухаммеда халифа Али ибн Абу Талиба и считают его потомков единственно законными наследниками и духовными преемниками пророка Мухаммеда (Ганков-ский, 1982: 68). Среди сложных межплеменных, религиозных, межнациональных отношений внутри афганского общества советский человек чувствовал себя ненужным, чужим, а все кругом было враждебным и непонятным для него:
Кто здесь суннит? Где здесь шиит?
Что по утрам мулла мычит?
А где здесь «хальк», а где «парчам»?
Ответь, ободранный бача!
Кто здесь декханин? Кто – душман?
Ты как кроссворд, Афганистан!1
В 1908 г. А. Гамильтон писал: «Между этими двумя сектами царитъ страшная вражда, которая далеко не ограничивается однимъ Афганистаномъ. Презрѣніе другъ къ другу и непримиримая вражда отличаютъ приверженцевъ этихъ сектъ, гдѣ бы они ни встрѣчались» (Гамильтон, 1908: 238).
Самый многочисленный народ Афганистана – пуштуны, они считают себя потомками Кайса, которого сам пророк Мухаммад обратил в ислам. Согласно данному утверждению, пуштуны являются первыми мусульманами, в отличие от вновь обращенных, что укрепляет их превосходство над всеми остальными этническими группами в Афганистане. Боевая сила и уникальное владение национальным военным искусством пуштунских племен позволили им в XVIII в. укрепить эмирскую власть и заложить основы вооруженных сил страны (Абдуллоев, 2013: 85). Практически все монархи Афганистана были пуштунами, их политика правления основывалась на традиционных ценностях и нравах своего народа («основного и великого») (Имонов, 2003: 29). Пуштуны преимущественно исповедуют ислам суннитского толка. Стечение обстоятельств привело к неравенству суннитов и шиитов как представителей титульной, государствообразующей нации, обращенной в ислам лично пророком Мухаммедом, считающих себя истинными мусульманами (Гест, 2015: 44), и ортодоксального ислама.
А.Е. Снесарев отмечает, что священнослужители во времена правления Хабибуллы-хана (1901–1919) провозгласили религию суннитов единственно правой. Вследствие чего под запрет попали все религиозные церемонии шиитов (Снесарев, 1921: 66).
Внутриконфессиональные противоречия усиливал также и экономико-географический фактор, который проявлялся в достаточно резкой диспропорции между северными регионами страны, относительно развитыми в хозяйственном отношении, населенными в основном непу-штунами, и территориями юга и юго-востока, которые были заселены преимущественно пуштунами (Конаровский, 2020: 151). Для советского человека, выросшего в атмосфере интернационализма и атеизма, было сложно разобраться в сути конфликта афганцев:
«Что расскажешь о востоке? Непривычная страна:
Здесь совсем другие боги и другие имена…»2.
Несмотря на внутриконфессиональные противоречия, ислам является для мусульман объединяющей системой. Еще в 1921 г. А.Е. Снесарев писал, что афганский народ, чье общество разделено на суннитов и шиитов, есть мусульманский народ, внутри которого могут быть конфликты, вражда и ссоры по поводу религиозных обрядов, церемоний. Но европеец для них все равно остается чужаком, и если им приходится иметь дело с ним, то независимо от их религиозных взглядов они объединяются против представителя иной религии и иного миросозерцания, к которому питают глубокое недоверие и неукротимую вражду (Снесарев, 1921):
Я не бандит. И не душман.
Я правоверный мусульман.
Но бьет воинственный набат Исламабад.
О том, что ты велишь, Аллах,
Зажечь в кяфирах смертный страх –
Не для неверных обезьян Афганистан!
Я не из тех, кто круглый год
В кяризах высохших живет:
И царандой, и шурави – Друзья мои.
Но ставлю я для их машин
Второй мешок ребристых мин,
И в верный час пускаю в ход гранатомет3.
А.Е. Снесарев писал, что в причинах такого отношения азиата к европейцу сложно разобраться, но одна причина все же ярко выражена – «азиат, прежде всего, глубоко национален по своей природе; знать свой род и крупных его представителей, знать свое племя, его историю, гордиться им и превозносить его – это долг всякого афганца, притом охотно и всегда страстно исполняемый» (Снесарев, 1921). Далее ученый делает вывод: «Нация – это его вторая религия. Понятно, на фоне такого сильного, страстного и всегда одностороннего национального чувства, люди другой национальности рисуются чем-то чужим, далеким, враждебным, более низким» (Снесарев, 1921:
67). Советские военные в 1980-е гг., столкнувшись с враждебностью, фанатичностью, коварством, жестокостью афганцев на фоне тяжелых бытовых условий (сложный местный субтропический континентальный климат со значительной амплитудой температур, антисанитария, отсутствие достаточного количества питьевой воды), все чаще называли Афганистан адом:
Не дружный с «поповскою ложью»,
Не верящий в Бога солдат,
Мальчиш-Кибальчиш из Поволжья,
Впервые увидевший ад1.
Данное противостояние Е.С. Сенявская называет проблемой «свой – чужой». Образ «другого» в силу человеческой психологии всегда воспринимается сквозь призму собственного опыта, традиций, психологии и архетипов, которые являются наиболее значимыми, а иногда и самоценными. А вот к инородным явлениям отношение либо безразличное, либо настороженное (Сеняв-ская, 2006: 235):
Горячее солнце, гряда голых скал,
Меж ними ущелье, как смерти оскал,
И небо чужое висит надо мной,
И в этой чужой мне стране – я чужой2.
По мнению О.С. Красильниковой, приоритет диалога между представителями разных культур предполагает построение коммуникативных стратегий, исходя из понимания ценности оппонента по коммуникации, что ориентированность на Другого – основа диалогического моделирования, фундаментальные принципы диалогизма – интерсубъективность, адресованность по отношению к Другому и взаимопонимание. Данные принципы позволяют исследователям оценивать участников коммуникации на паритетных началах, но в действительности равенство в диалоге – это, скорее, коммуникативное намерение, предполагаемый идеал (Красильникова, 2023: 202). В общении на уровне «советский человек – афганец» как раз не было полного понимания ценностей иной культуры, взаимной заинтересованности сторон коммуникации и паритета в отношениях, потому что изначально афганец воспринимал русского как иноверца, агрессора, чужого, а русский в какой-то степени относился к афганцам с позиции лидера. Чувствуя враждебность со стороны местного населения, понимая, что ты здесь «чужой» и своим стать не можешь, что, в целом, цель, ради которой Ограниченный контингент советских войск перешел границу Афганистана в 1979 г. определена неверно, советский солдат в стихах все чаще задает вопросы о смысле этой войны и ее жертв:
Зачем мне тот Афганистан
С палящим неприветным небом,
Где каждый камень, как душман
Встречает нас свинцовым хлебом!
Что потерял я в том краю,
Чего ищу в слепых раздорах
И кровью русскою пою
В чужой земле чужие горы?
Я не бандит... и, всё же, в дверь
В чужую лезу с автоматом...
И зло зовут меня теперь
Из-за бугра пришедшим «братом»3.
Вмешательство Вооруженных сил Советского Союза было воспринято духовными сановниками и лидерами вооруженной оппозиции исламских государств как акт агрессии. Это послужило поводом к призыву всех правоверных мусульман к борьбе с «неверными» – джихаду, который в данном конфликте воплощался в форме вооруженной борьбы против притеснителей ислама – военном джихаде, «джихаде меча» (Рабуш, 2016: 19). С.Е. Григорьев приводит мнение подчиненного афганского полевого командира Ахмад Шах Масуда, одного из известных историков и летописцев афганского повстанческого движения Абд ал-Хафиза Мансура, согласно которому для афганского народа противостояние приобрело характер национальной освободительной войны (Григорьев, 1997: 40).
Изучая боевой опыт применения советских войск в Афганистане, следует отметить фанатичную приверженность местного населения исламу, для которых солдаты СССР были не просто противниками, а «неверными», в результате чего по законам ислама война против них являлась с благословения Аллаха священной обязанностью любого мусульманина (Сенявская, 1999: 219). И убитый на этой войне («кошта») становится мучеником за веру («шахид»). Здесь нет «ни воина, ни пуштуна – есть “моджахед”, сражающийся с “кафиром” (неверным)» (Ляховский, 1995: 30):
Сам бог велит в меня стрелять,
Ведь по понятью племенному
Пришёл я к дьяволу склонять
И жить заставить по-иному!1
Многовековая история Афганистана свидетельствует о беспрекословном подчинении народа законам шариата (араб. «верный путь») – своду правил, предписаний, определяющих духовные ценности, убеждения2, которым должен следовать каждый мусульманин независимо от происхождения и рода занятий. Основными источниками шариата являются: Священный Коран, Сунна, Иджма, Кияс. Законы его регулируют все сферы жизни мусульман, определяют разрешенные нормы, запрещенные и неодобряемые действия, а также последствия поступков – награду или наказание3. Шариат проникает даже в интимные уголки жизни афганца, подчиняет его себе и получает полный контроль над поступками, мыслями мусульманина и даже воображением.
Влияние духовенства на афганцев велико, особенно в сельской местности, где их роль не ограничивается отправлением только религиозных обрядов, здесь они выполняют роль духовного наставника, советчика, судей и учителей. Решение многих жизненных вопросов зависит от мнения муллы. К нему прислушиваются, его решение принимается как единственно верное (Война в Афганистане …, 1991: 11, 12).
Наш вид привел беднягу в дрожь,
– Кто и откуда ты, афганец?
– Я, Мухаммад Тарок Абдал,
Крестьянин честный из Лагмита.
– А как же ты бандитом стал?
– Мы – оборонцы, не бандиты.
Мулла сказал: «Из-за реки
Пришли “неверных” миллионы»,
И собирают кишлаки
Отряды самообороны4.
Важно отметить, что Афганистан – это традиционное общество. Главные их ценности – это патриархальность, подчинение, смирение, трудолюбие, воинственность и т. д. Традиции – это выработанные механизмы выживания, которые помогли афганцу справиться с реалиями жизни (сложный географический рельеф, тяжелый климат, войны с внешним врагом, причина которых скрыта в геополитическом расположении страны; межэтнические конфликты, конфликты на почве религиозных убеждений, внутренняя борьба за власть и пр.). Видимо, эта способность афганца приспосабливаться, выживать в любых условиях, с одной стороны, вынуждает его строго придерживаться традиционного уклада жизни, а с другой – быть открытым ко всему новому, модному, что вызывало недоумение у военнослужащих Советской армии:
По склонам гор, местами до вершин,
Жилища-сакли бедного предместья
Ступенями восходят к поднебесью,
Беря начало с уличных равнин,
Где древность с современностью слилась
И новая эпоха началась.
Идет торговля, может, нет беды?
И тут же фирм японских раритет Сверкает средь фруктового полона: Магнитофоны, «стерео» и «моно», И видео… У нас в помине нет
Таких вещей, они – предел мечты.
Секрет средневековой нищеты?1
Почитание традиционных ценностей, основанных на Коране, принадлежность к мусульманской религии являются объединяющими факторами, во многом определяющими стиль жизни афганцев. Нормы ислама переплетаются с национальными традициями и формируют специфическое восприятие внешнего мира, поведение в пограничной ситуации.
Коран – это особая социальная философия, которая определяет бытие мусульманина, формирует внутренние и личностные установки, гармонично встроенные в традиционный уклад, детерминированный национально-культурными особенностями быта. Можно утверждать, что любое влияние внешних сил, имеющих целью изменить сознание афганца, его мировоззрение, основой которого является исламское вероучение и национальные традиции, не будет иметь успеха (Урюпина, 2021: 66).
Осуществленный выше анализ с необходимостью подводит к следующим выводам. Во-первых, ислам стал для народа Афганистана тем духовным фундаментом, на основе которого он всегда объединялся, сплачивался, организовывался для вооруженной борьбы с внешним врагом – явным или мнимым. Именно таким мнимым врагом был Советский Союз, что было осознано политически зрелой частью афганского общества уже спустя годы после ухода Вооруженных сил Советского Союза из этой страны. Во-вторых, в советских войсках, вступивших в Афганистан, служили представители разных национальностей, культур и вероисповедания. Несмотря на то, что в СССР атеизм являлся господствующей идеологией и составной частью политической практики, на уровне народных традиций и обычаев сохранялась некая связь населения с религией, еще и войны, на которых, как говорят ветераны, неверующих не бывает. Как вспоминает один из солдат Советской армии: «…Были случаи, когда непроизвольно про себя произносил имя Все-вышнего»2. Но в Афганистане пришлось столкнуться с глубоко верующим противником, отличавшимся фанатичной приверженностью исламу, что было незнакомо и непонятно советскому человеку. Особо интересным и ценным в этом отношении, по нашему мнению, в стихах и песнях воинов-интернационалистов, написанных в Афганистане, является их эмоциональность, иногда максимализм и критичность в суждениях. В-третьих, сущность, квинтэссенция художественнопоэтического творчества воинов-«афганцев» – не только эмоциональное восприятие ими чужого общества и чужой войны, но и своеобразный политический протест против последней.
Список литературы Ислам и феномен лирики советских воинов-«афганцев» (1979-1989)
- Абдуллоев Р. Пуштуны в политической жизни Афганистана // Центральная Азия и Кавказ. 2013. Т. 16, № 3. С. 85-95.
- Война в Афганистане / Н.И. Пиков [и др.]. М., 1991. 367 с.
- Гамильтон А. Афганистан. СПб., 1908. 340 с.
- Ганковский Ю.В. Афганистан: прошлое и настоящее. М., 1981. 336 с.
- Ганковский Ю.В. Империя Дуррани. М., 1958. 170 с.
- Ганковский Ю.В. История Афганистана с древнейших времён до наших дней. М., 1982. 368 с.
- Гест К. Динамичное взаимодействие между религией и вооруженным конфликтом в Афганистане // Конфликт в Афганистане: дискуссия по гуманитарным вопросам: право, политика, деятельность. М., 2015. С. 35-58.
- Григорьев С.Е. Панджшер в 1975-1990 гг. глазами афганского историка. СПб., 1997. 128 с.
- Имомов Ш. О поисках историко-культурных ценностей Афганистана // Фонус. 2003. № 7. С. 29. (на таджик. яз.)
- Конаровский М.А. Некоторые исторические основы внутреннего противостояния в Афганистане и перспективы его урегулирования // Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. 2020. № 2. С. 149-160. https://doi.org/10.31857/S086919080009068-1.
- Красильникова О.С. Культурфилософские основания проблематики межкультурной коммуникации в контексте отношений «Свой - Чужой» // Общество: философия, история, культура. 2023. № 3 (107). С. 200-203. https://doi.Org/10.24158/fik.2023.3.31.
- Лебедева Н.А. 20-тилетию вывода советских войск из Афганистана посвящаем. Культурологический аспект творчества воинов-афганцев. М., 2009. 112 с.
- Липатов В.А. Солдат и песня: 300 лет вместе. Екатеринбург, 2006. 156 с.
- Ляховский А.А. Трагедия и доблесть Афгана. М., 1995. 648 с.
- Ляховский А.А., Забродин В.М. Тайны афганской войны. М., 1991. 269 с.
- Рабуш Т.В. Джихад и пропаганда в афганском вооруженном конфликте (1979-1989 гг.) // Исламоведение. 2016. T. 7, № 3 (29). С. 17-25. https://doi.org/10.21779/2077-8155-2016-7-3-17-25.
- Сенявская Е.С. Противники России в войнах ХХ века: эволюция «образа врага» в сознании армии и общества. М., 2006. 288 с.
- Сенявская Е.С. Психология войны в XX веке: исторический опыт России. М., 1999. 382 с.
- Снесарев А.Е. Афганистан. М., 1921. 154 с.
- Урюпина М.А. Война в Афганистане: опыт глобализации // Кострома. Genus Loci. Кострома, 2021. С. 62-68.
- Цмай В.В. Свобода вероисповедания в исламской Республике Афганистан: современное состояние и проблемы // Научная сессия ГУАП: Гуманитарные науки. СПб., 2021. С. 263-266.