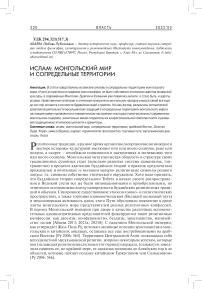Ислам: монгольский мир и сопредельные территории
Автор: Абаева Любовь Лубсановна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 2, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье представлены исламские анклавы в сопредельных территориях монгольского мира. И хотя исторически в пределах монголосферы не было собственно этнических адептов исламской культуры, в современных Монголии, Бурятии и Калмыкии уже появились мечети, а стало быть, и адепты ислама. Нравственные категории и этические приоритеты монгольских народов в массе своей все еще до сих пор остаются в контексте буддийских идей и практик. На наш взгляд, результаты исторической креативной деятельности мусульманских традиций в сопредельных территориях монгольского мира в настоящее время проявляются в поведенческом настроении некоторых (малочисленных) современных монгольских социумов, значительно меняя стереотипы их конфессиональной компетентности и размывая традиционные этнические ценности и ориентиры.
Ислам, монгольский мир, сопредельные территории, арабский восток, золотая орда, коран, умма (община), шариат, кораническое пространство, торговые пути, мусульманские диаспоры, лхаса
Короткий адрес: https://sciup.org/170198250
IDR: 170198250 | УДК: 294.321(517.3) | DOI: 10.31171/vlast.v31i2.9565
Текст научной статьи Ислам: монгольский мир и сопредельные территории
Р елигиозные традиции, в разное время органично/неорганично возникшие в векторе историко-культурной эволюции того или иного социума, рано или поздно, а скорее – неизбежно появляются в настроениях и мотивациях того или иного социума. Монгольская метаэтническая общность в структуре своих традиционных духовных страт (довольно развитая система шаманизма, тэн-грианство) в процессе адаптации буддийских теорий и практик предпочитала врожденные и впитанные «с молоком матери» религиозные символы родного локуса, т.е. символы собственно этнического окружения. Хотя надо признать, что буддийские теории сопредельного Тибета в начале своего распространения в Великой степи все же были инновационными и приобретенными, но этнически осознанными в силу однородности буддийских религиозных традиций и обычаев. Синхронное существование этносов в моно- и полиэтнических пространствах, а также торговые взаимоотношения (Великий шелковый путь) и миссионерская активность вдоль этого Пути обусловили появление в среде элиты монгольского мира представителей разных религиозных конфессий. В период Монгольской империи при дворе в качестве различных вспомогательных административных представителей фиксируются такие религиозные конфессии, как даосизм, конфуцианство, буддизм, христианство, манихейство, ислам [Абаева 2013; 2021а; 2021б]. С падением Монгольской империи, как утверждает Жан-Поль Ру, исчезают активные позиции христианства в монгольских и китайских анклавах, оставаясь все еще востребованными на арабском Востоке [Ру 2006: 565]. Территория Центральной Азии «показывала себя неподвластной мусульманской религии, вопреки некоторым успехам, которые она [исламская религиозная система в тот период] одержала, [однако] не замедлила принять ее, по крайней мере, ее западная половина до Алтайских гор и до областей, которые назовут позднее китайским Туркестаном или Синьцзяном» [Ру 2006: 566].
Параллельная адаптация ислама ильханами и ханами Золотой Орды естественно усиливала статус мусульман на Среднем Востоке. И здесь крайне интересно, что активизация исламского проникновения на Средний Восток практически нивелировала христианские ростки в этом регионе. Точно так же после падения Юаньской династии как буддизм, «инородный» в Китае, так и христианство значительно теряют свои практически лидирующие позиции, присутствующие и довольно заметные при монголах. Китайская элита возвращается к своим традиционным ценностным религиозным и политическим императивам – конфуцианству и даосизму. На территории Китая остаются лишь небольшие, крайне изолированные анклавы китайской вариации буддизма – чань-буддизма, который впоследствии в силу своей специфики на китайской земле в контексте Шаолиньского монастыря с его боевыми искусствами и психотехникой стал очень популярным на всем земном шаре.
Центр активации исламских миссионеров, сподвижников, а также многочисленные халифаты постепенно сдвигаются с востока на запад. Однако вследствие военного передвижения на восток монголы вновь вступают в непосредственный контакт с исламским миром. «Взятие престижной столицы “Тысячи и одной ночи” (Багдад) монголами, казнь командора верующих в 1258 г. дали Каиру место, которое он напрасно оспаривал с Багдадом», – утверждает Жан-Поль Ру [Ру 2006: 566]. Более того, французский исследователь подчеркивает, что, если бы не монгольские военные действия/завоевания, Египет вряд ли бы стал «фигурой первого мусульманского государства в мире», а величественный Багдад, оставаясь культурным центром, станет «городом средней значимости», и Ирак, для которого Багдад признавался самым утонченным в своей красоте и славе, превратится в «отдаленный район» мусульманской культуры [Ру 2006: 566].
Россия, по мнению многих известных историков-востоковедов, в силу разрозненности княжеств более всего подверглась влиянию/воле монгольских завоевателей с 1237–1238 гг. по 1502 г., когда столица Золотой Орды Сарай была разрушена крымским ханом Менгу Гиреем I. Элита правящего класса, как утверждает тот же Жан-Поль Ру, «попытались как можно лучше приспособиться к существующей тогда ситуации. Они, конечно, предпочли покориться монголам, чем исламу и тюркоязычным князьям» (выделено нами. – Авт. ) [Ру 2006: 568]. При этом православное духовенство, как и все священнослужители на территории Монгольской империи, были освобождены от налогов и поборов. Небезынтересна также мысль французского исследователя, что такие категории, как деспотизм, характерный для российского царского режима, установление абсолютной власти, которую не обсуждают и которую каждый уважает, «какой бы она ни была и что бы она ни делала», «смирение и послушание» мирского населения также заимствованы у имперской Монголии. Здесь же фиксируется четкая тенденция ортодоксальных православных к «воле к выживанию» своих религиозных символов и скрытое/открытое ригидное противостояние исламу.
Появление исламской культуры и ее дальнейшее развитие фиксирует также феномен перманентных и обширных торговых связей и развитие международной торговли. Кроме того, при возникновении ислама на любой территории, как правило, открывались многочисленные медресе (средние и высшие школы), появлялись новые адепты. Об этом свидетельствует более позднее красочное и богатое оформление столицы Золотой Орды – тринадцать больших мечетей, хотя население Золотой Орды территориально и этнически было крайне разношерстным: монголы, азы, кипчаки, черкесы, русские, визан- тийцы, мусульмане Египта, Ирака и Сирии [Ру 2006: 522]. Правда, в процессе исламизации территорий, завоеванных монголами, всегда оставались реликты собственных религиозных обычаев и обрядов у представителей того или иного этнического сообщества, в разные хронологические периоды входившего в состав Монгольской империи.
Ислам как религиозная система, сложившаяся «на стыке древних европейских и ближневосточной цивилизаций, впитавшая в себя элементы христианства и иудаизма, греческой философии и римского права, административную структуру древнеперсидских империй и мистико-метафизических спекуляций индуизма и буддизма, являет собой сложный итог многостороннего синтеза», – утверждает Л.С. Васильев [Васильев 1983: 158]. Основной матрицей этого поликультурного и поликонфессионального синтезированного субстрата мифологических, поэтизированных и канонизированных идей и практик были, соответственно, арабский этнос, арабская культура и арабская государственность.
Не вдаваясь в подробности обширного религиозного пути ислама, его эволюции, структуры мусульманского образа жизни и его непосредственных канонов, отметим лишь, что расцвет, процветание мусульманских идей и практик фиксируется в Оттоманской империи, когда основная часть канонического халифата оказалась под ее юрисдикцией. С возникновением Оттоманской империи функции халифов (халифатов) переходят к турецкому султану, ставшему повелителем правоверных. Центром шиитского ислама становится Иран, где продолжается оппозиция шиитов и суннитов. Третьей крупной исламской империей стала империя Великих Моголов в Индии, где процессы адаптации коранических идей и практик шли параллельно с индуизмом.
«Мировые религии ориентируют человеческий дух на то, что он должен учиться мыслить, видеть и слышать истины бытия», – писал известный религиовед-востоковед В.И. Корнев [Корнев 1999: 13]. Это, естественно, буддизм, христианство и ислам. Буддизм в данном случае относится к категории «мыслить», христианство – «видеть», ислам – «слышать». Вектор их хронологической эволюции, как акцентирует автор, проявляется через каждые 617 лет и имеет «точечные» ориентиры – Будду, Иисуса Христа, Мухаммеда. Эти великие исторические ориентиры формируют мироразвивающие модели, которые со временем «как бы взрываются», заполняя огромные географические пространства. Исламское (кораническое) пространство постоянно «наполняется» голосом Всевышнего, выступая зримо и «подавляюще мощно» [Корнев 1999: 206]. Небесная твердь здесь ассоциируется с Кораном, основу пространства представляет умма (община), а путь указывает шариат.
Основные этапы эволюции мусульманских (исламских) воззрений характеризуются тем, что предписания Корана, изложенные Мухаммедом, являются божественными истинами. При этом наиболее убедительными и доказательными для людей являются ратные победы над неверующими («язычниками»), сомневающимися («люди писаний», т.е. ученые), над сильными врагами. В результате таких побед «дух укрепляется в вере». Во-вторых, по мнению исследователя, «человеческий дух обязательно стремится индивидуально постичь божественную истину». В-третьих, уже в VIII в. начинают разрабатываться принципы и законы толкования Корана – тафсир, основоположником которого считают двоюродного брата Мухаммеда Абдаллаха ибн Абасса (умер в 687 г.). Толкователи разделяются на два лагеря: буквального понимания, принятия Корана и интерпретации скрытых, тайных смыслов Корана. В векторе развития коранического пространства на его обширных территориях фиксируются также удивительные идеи исламского социализма в его разных национальных формах. Единство коранического пространства на практике создает свою интеграционную модель, включающую политические, финансовые, экономические и благотворительные механизмы взаимодействия и взаимопомощи, такие как «Исламская конференция», Исламская торгово-промышленная палата, ОПЕК, Исламский банк развития, Исламский Совет Европы, Региональная исламская организация стран Юго-Восточной Азии и Тихого океана, Лига исламского мира, Международная организация исламских банков и т.д. [Корнев 1999: 209]. Здесь же можно вспомнить и о таких феноменах, как активизирующийся так называемый исламский фундаментализм, а также процессы обсуждения допустимых границ секуляризации.
Что касается доминирующей во всех смыслах сопредельной территории монгольского мира в этнокультурном, социальном и конфессиональном контексте – Тибета, как отмечают и российские, и европейские исследователи, Лхаса и окружающие ее территории были прочно закрыты для всех чужестранцев. Тибет всегда считался, по мнению многих ученых, крайне гомогенной монолитной территорией в этническом, культурном, лингвистическом и религиозном смыслах. Традиционными религиозными конфессиями здесь были бон и буддизм в вариациях разных буддийских школ [Абаева 2018]. Однако издания и исследования конца прошлого и начала настоящего веков позволяют раскрыть некоторые «коранические» анклавы и в Тибете. К примеру, Даваа Доржи в своей публикации журнала Tibet Journal отмечает, что еще в XIX в. Лхаса по «азиатским стандартам» считалась абсолютно космополитичным урбанизированным городом. Традиционно насельниками Лхасы являлись этносы Индии, Непала, Бутана, Ладака, Центральной Азии, Монголии, Китая и даже Юго-Восточной Азии. Но в связи с английской экспансией в Южную Азию и Гималаи Лхаса, под протекторатом которой был весь буддийский Гималайский регион, «закрыла свои ворота» [Norbu 1990: 29].
Однако исламские идеи и религиозные практики (коранические анклавы) все же фиксируются не только в Тибете и его сопредельных территориях, но и на равнинных (террасовых) и горных территориях предгималайской гряды и собственно великих Гималаев. В высокогорные районы Гималаев мусульманские идеи и практики все же не проникают. Только автохтонные этносы, наследственно привыкшие к условиям высокогорья и разреженного воздуха, являлись насельниками этой уникальной территории, и они обживали, устраивали и культивировали этот регион.
Ислам проникает в Тибет из двух регионов. Естественно, пионерами здесь были торговые представители – адепты исламской культуры. Жозе Игнасио Кабесон в своей статье «Islam in the Tibetan Cultural Sphere» («Ислам в тибетской культурной сфере») свидетельствует, что первый путь пролегал из Аравии. Через Персию и Афганистан они достигали Китая по Великому шелковому пути. Второй маршрут – из Нинси (Ningxia) и других городов Китая на Восточный Тибет – Амдо. Китайские мусульмане, известные как хуэй (Huis), как правило, оседали в Сылине (Siling) в регионе Кукунора. С этого места они везли свои товары в Центральный Тибет. Многие из них практически всегда присутствовали/проживали в Восточном Тибете, где в основном хранились их огромные тюки с товаром. Спорадически с товаром они передвигались на Лхасу, где незначительное число их братьев по вере уже успело освоиться/при-житься. Малочисленная мусульманская община в Лхасе в этническом отношении состояла из китайцев, кашмирцев, непальцев, выходцев из Ладака и сикхов (принявших ислам после военных столкновений в Догре) [Cabezon 1997: 21]. Организационно они были разделены на две группы, представляющие Большую и Малую мечети1. Традиции исламского мира, как полагают многие исследователи, также проникали и со стороны Запада: из Туркестана, Балтистана и Кашмира – в Ладак, и через Ладак – в Восточный Тибет и Лхасу. Так случилось, что Балтистан был покорен исламскими военными где-то в начале XV в., и «тибетские буддисты были вынуждены принять ислам». В конце XVI в. исламисты завоевали Ладак и «сожгли все буддийские религиозные трактаты, некоторые утопили в водных источниках, разрушили практически все буддийские монастыри и после этого вернулись на свою родину» [Cabezon 1997: 15]. Но, как утверждают те же источники, «буддизм выжил и до сих пор процветает».
По утверждению автора, буддизм и ислам не только «взаимно повлияли друг на друга» в политическом и популярном народном смыслах, но и значительно обогатили художественные, научные и литературные смыслы друг друга. Влияние исламского искусства и архитектуры, истоками которых являлись Персия, Кашмир и Индия Великих Моголов, на многие локусы Гималаев достаточно известно. Кроме того, песенная и музыкальная культура и широко известная арабская медицина, хотя и в небольшой степени, имели контакты с тибетскими традициями [Cabezon 1997: 22].
Процесс интеграции малых этнических групп с исламскими воззрениями, обрядами и обычаями (даже предгималайского происхожения) в столице буддийской культуры и религии Лхасе требовал лояльности со стороны буддийского сообщества. Адаптация мусульман в локус тибетской теократической столицы потребовала немало времени. Однако общие и взаимные коммерческие интересы сыграли свою интегративную функцию, т.к. тибетскому буддийскому социуму необходимы были шафран, сушеные фрукты, сахар, все виды текстиля и т.д. В свою очередь, мусульманские торговцы получали широко популярные в их среде красочные тибетские палантины и шали из шерсти различных животных, бытующих в тибетском социуме, а также соль, золото, бирюзу и хвосты яков, используемых в индуистских (видимо, для перепродажи. – Авт. ) религиозных ритуалах, и особенно шерсть, мускус и чай [Cabezon 1997: 20].
Как результат торговой, культурной и языковой интеграции, мусульманское сообщество (правда, очень малочисленное) в столице буддийской культуры в Лхасе выработало четкое и явно выраженное чувство религиозной и этнической самоидентичности ( self-identity ), что в значительной степени отличало их от всех других анклавов Тибетского нагорья. Игнасио в конце своей статьи отмечает, что эти малые диаспоры исламского вероисповедания в Лхасе «перед лицом всепоглощающего, всеобъемлющего и окружающего буддийского мира вокруг них» выжили и существуют именно благодаря известной толерантности буддистов. Интересно, что все эти малые диаспоры мусульманского анклава в Лхасе «считают Тибет своей родиной ( homeland )» [Cabezon 1997: 21].
После событий 1959 г. адепты ислама, исторически – индийские поданные, исчезают из бывшей зоны Тибетской автономии. В Индии и Непале их регистрируют как беженцев. На сегодняшний день исламские диаспоры сконцентрированы в основном в Катманду, Даржилинге и Калимпонге. Наиболее круп- ная группа бывших мусульманских диаспор Тибета фиксируется в Шринагаре штата Кашмир в Индии.
Результаты исторической креативной деятельности мусульманских традиций в сопредельных территориях монгольского мира в настоящее время проявляются в поведенческом настроении некоторых этнофоров современных монгольских социумов, значительно меняя стереотипы их конфессиональной компетентности и размывая традиционные этнические ценности и ориентиры. В столице Монголии Улан-Баторе, столице Бурятии Улан-Удэ, столице Калмыкии Элисте появляются мечети, а стало быть, и адепты исламской религиозной культуры. Аспект диалогического вектора в данном случае происходит на уровне восток–восток, что отнюдь не свидетельствует о единой и общей культурной и конфессиональной целостности данного феномена.
Статья подготовлена в русле исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию отделу философии, культурологии и религиоведения Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской Академии наук по проекту: «Трансформация направлений и школ буддизма: история и опыт взаимодействия с религиями и верованиями России, Центральной и Восточной Азии с периода распространения буддизма до современности (Россия – ХVIII–XI вв.; Китай – II–XXI вв.; Тибет – VII–XXI вв.; Монголия – ХVI–XXI вв.)».
Список литературы Ислам: монгольский мир и сопредельные территории
- Абаева Л.Л. 2013. Несторианские раннехристианские религиозные традиции в этнокультурной истории народов Центральной Азии. - Вестник БГУ. Сер. Философия. Социология. Политология. Культурология. № 6. С. 146-149.
- Абаева Л.Л. 2018. Религиозная культура монгольских народов в векторе буддийских традиций. Улан-Удэ: Буряад-Монгол ном. 368 с.
- Абаева Л.Л. 2021а. Христианские вариации и мотивы в монгольском мире: феномен религиозной конверсии. - Власть. Т. 29. № 3. С. 158-163.
- Абаева Л.Л. 2021б. Манихейство в религиозных реверсиях монгольского мира. - Власть. Т. 29. № 5. С. 222-227.
- Васильев Л.С. 1983. История религий Востока (религиозно-культурные традиции и общество): учебное пособие для вузов. М.: Высшая школа. 368 с.
- Корнев В.И. 1999. История мировых религий. Инновационный проект XXI века "Логос". М.: [б.и.]. 244 с.
- Ру Ж.-П. 2006. История Империи монголов (пер. с фр. З.З. Сажиновой; отв. ред. П.Б. Коновалов, С.Ш. Чагдуров). Улан-Удэ: Изд-во Бурятского государственного университета. 672 с.
- Norbu D. 1990. The Europeanization of Sino-Tibetan Relations, 1775-1907: The Genesis of Chinese 'Suzerainty' and Tibetan 'Autonomy'. - Tibet Journal. Vol. 15. No. 4. P. 29-39.
- Cabezon J.I. 1997. Islam in Tibetan Cultural Sphere. - Islam in Tibet & The Illustrated Narrative Tibetan Caravans (ed. by H. Gray). P. 13-23.